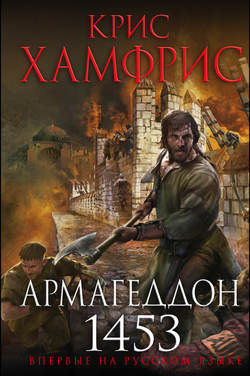Читать книгу Армагеддон. 1453 - Крис Хамфрис - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть I
Альфа
Глава 10
Город призраков
ОглавлениеСофия следила за ним сквозь ставни, сквозь нитки дождя. Они накрывали город уже неделю, размывая даже дом напротив, лишая вещественности вид и камень. Дом стоял в руинах, и, когда София впервые заметила фигуру среди покосившихся бревен, она подумала, что это призрак семьи, жившей здесь, родителей и троих сыновей, умерших от чумы пять лет назад. Женщина перекрестилась, пошла помолиться перед домашним алтарем, вернулась… и фигура по-прежнему была там; голова под капюшоном поднята, но лицо неразличимо за дождем и тенями. Дождь не прекращался, однако человек стоял там и час спустя, с совсем не призрачным постоянством, ибо она уже встречала призраков – ее матери, покойного брата, – и они колыхались, приходили, смотрели, исчезали, если с ними заговорить. Они не стояли часами, глядя вверх.
София знала, кто он. Когда она назвала своих призраков, он завершил счет. И это было самым тревожным: осознать, что тот, кого она считала мертвым, жив. Что тот, кого навсегда изгнали из города, вернулся, несмотря на угрозу немедленной смерти. Что мужчина, которого она любила и оставила, стоял в десяти шагах от нее.
– Мама!
Крик напугал ее, настолько она ушла в себя. Однако в нем не было ничего удивительного. С той минуты, как София три недели назад вернулась в город, дочь не оставляла ее, все время была рядом, касалась ее…
– Что случилось, ягненок? – София наклонилась и погладила мягкую щечку пятилетней девочки.
– Мама, ты сказала, что расскажешь мне историю.
Девочка выпятила нижнюю губу, мгновенно напомнив Софии Феона. Минерва многое взяла от него: сильную волю и спокойные требования. А вот Такос, затерявшийся над книгами в другой части дома, больше походил на Софию. Высокий для своего возраста, скорый на смех и плач.
– Историю? – спросила София, присев и обнимая дочь. – Какую именно?
– Самую прекрасную, – просто ответила Минерва, прижимаясь к ней.
Прекрасную? София взглянула в окно. Там была история, стоящая под дождем и в руинах, но она не была прекрасной, а ее конец ни за что не понравился бы дочери. Некогда София думала, что это трагедия, подходящая тем пьесам о богах и героях, которые игрались на Ипподроме в праздничные дни. Но сейчас она осознала, что не знает конца, что все прошедшее было лишь перерывом между действиями. И она чувствовала – сильно, определенно, – что ей необходимо узнать, и узнать прямо сейчас.
София крепко обняла дочь, приподняла ее, вставая, и поцеловала.
– Мне нужно выйти, мой херувимчик. Афина расскажет тебе историю.
Девочка скривилась:
– У Афины ужасные истории. И голос у нее как у вороны. – Она прижалась теснее. – Я пойду с тобой.
– Нет. – София поставила девочку на ноги, отцепила от себя. – Мне нужно…
Она посмотрела в окно. Кажется, вдали ударила молния. Шум дождя по крыше стихал.
– Буря проходит. Скоро откроется рынок. Мне нужно купить продукты.
Не совсем ложь. Это в любом случае повод выйти. Афине можно было доверить приготовление еды, но не покупки; ее всегда обсчитывали, и сейчас они не могли себе этого позволить. Она пойдет на рынок. Но сперва нужно зайти в другое место. Место, которое София любила больше прочих на Божьей земле.
Церковь Святой Марии Монгольской. Святая, в честь которой назвали церковь, была византийской принцессой, столетия назад посланной выйти замуж за варвара. Она вернулась, чтобы основать часовню, и София любила эту историю и эту церковь с тех пор, как ей самой исполнилось пять лет. И никогда еще в своей жизни она так не нуждалась в утешении, которое находила там.
Церковь была неподалеку. Пройти по узким улицам, которые София хорошо знала. Улицам, полным теней, где можно спрятаться и разглядеть мужчину в плаще, который проходит мимо…
* * *
Дурак!
Вот так. Заработан еще один титул. Будто «Риномет» и «наемник» недостаточно унизительны. Только дурак будет стоять тут и пялиться вверх, час за часом, под холодным дождем. Любой другой сделал бы то, что следовало сделать Григорию, едва он услышал слова Джустиниани, сказанные три недели спустя после высадки: он все еще не может найти золото, чтобы заплатить Григорию. Любой другой прямиком пошел бы в гавань и поднялся на борт судна, отплывающего… куда угодно.
Но его глупость простиралась в прошлое задолго до этой холодной ночи. Почему? Почему из всех сцен, проигранных в голове, он ни разу не подумал об этой? Чего он ждал от Софии, когда вести о его бесчестии дошли до Константинополя? Ухода в монастырь? Одинокой жизни в память о нем? Григорий заставлял себя не думать о ней. В целом, затерявшись в войне и вине, он преуспел – по крайней мере, когда бодрствовал. Но чего он от нее не ожидал – и этим заслужил новый титул, – так это брака с его братом.
Когда Григорий в темноте пробрался по переулкам, чтобы взглянуть на дом, где вырос… она была там. Хуже того – с детьми, вернулась с мальчиком и девочкой. Но самым худшим, хуже всего другого был его брат, который открыл им дверь и резко потянул Софию к себе.
Феон. Если первый взгляд на нее принес опустошенность, всплеск тоски и рвущей душу потери, которые согнули Григория, стиснули грудь, то вид брата вызвал другое чувство – ясное, определенное, однозначное.
Ненависть.
Некогда это было немногим больше неприязни к близнецу, который ничем не походил на него – холод против его пыла, разум против его чувств. Их соперничество было рано очерчено, место выбрано и признано: Григорий не станет бросать вызов брату в библиотеках, Феон не попытается соперничать с братом на открытом воздухе. Своего рода неохотное перемирие, и оно работало, когда миновали первые детские переживания. Они не замечали друг друга, шли разными путями. Но случившееся в Гексамилионе и после уничтожило всякий нейтралитет. Григорий начинал ненавидеть собственную память, ибо она бросала в него лицо брата – похожее, но не его, особенно в главном: Феон не был обезображен. Старший всего на мгновение, он не был изуродован, отмечен позором. Однако все то время, когда они оставались далеки, Григорий представлял брата одиноким и по большей части не думал о нем. Пока…
Пока он не увидел, как Феон притягивает к себе Софию. Не как любовницу, хотя она наверняка спала с ним – об этом свидетельствовали щенки. Как собственность. И с внезапной жестокостью он понял: Феон владел единственным человеком, которого Григорий любил. Перемирия не было, только ожидание. И вид этой победы, осознание своего поражения, своей ненависти, как свежевыкованный клинок, едва не заставило его перебежать улицу с кинжалом в руке и зарезать обоих прямо на глазах у детей.
Однако Григорий не побежал. И не мог уйти, невзирая на дождливую ночь, холод и близость опасного для него рассвета. Он мог только стоять там и смотреть вверх. А сейчас, когда она вышла из дома, через час после ухода его брата, наконец-то одна, он мог только пойти за ней.
Ибо глупец ничем не может себе помочь.
И все же… просто смотреть, как она идет! В юности он часто ходил за ней незамеченным, восхищался покачиванием ее бедер, чувственностью ее походки, такой непохожей на ее чопорные и пристойные манеры, когда Григорий заходил к ней в отцовский дом. И идя за Софией сейчас, он вспоминал, как шел за ней в последний раз. То был совсем другой день; солнце грело его новые доспехи, носимые им с гордостью. На следующий день он отправлялся в свою первую кампанию. А София… она ухитрилась оставить служанку в церкви, которую так любила, бросила своего сторожевого пса молиться. Она выскочила из часовни, удивив его, ждущего снаружи; потом бегом повела его к каменной плите на берегу Золотого Рога. Они провели там весь день, болтая ногами в воде, рассказывая истории, смеясь. А когда солнце село и тьма укрыла их от чужих глаз, он впервые поцеловал ее – юношеский порыв, который стал под ее руководством чем-то плавным, безвременным. Опустошающим…
Григорий встряхнулся. Воспоминания сделали его беспечным. Впереди лежал перекресток, и поворот направо приведет его в единственное безопасное место в Константинополе – казармы генуэзских наемников. Его изуродовали и изгнали с окончательным приговором: немедленная смерть, если его когда-нибудь застанут внутри городских стен.
Но сейчас… сейчас, на перекрестке, София пошла прямо. Прежде забывшись, сосредоточившись внешне на ее походке, а внутренне – на воспоминаниях, Григорий вдруг осознал, куда она идет. В ту самую церковь, которую она так любила, Святой Марии Монгольской. И когда пришел его черед выбрать одну из четырех дорог на перекрестке, он не замешкался. Он пошел за ней.
В красной стене, окружающей церковь, была небольшая арка. Когда Григорий миновал ее, он заметил скрытые плащом очертания Софии, входящей в дверь часовни. Внутренний двор был в десять шагов шириной. Григорий пересек его, потом прошел атриум.
Церковь осталась такой, какой он ее помнил. Небольшая, скорее квадрат, чем прямоугольник, побеленные стены и три потолка с ребристыми сводами – простое обрамление для великолепия дубового иконостаса с резными библейскими сценами и высокими иконами, изысканно выписанные лица позолочены, венцы и облачения из серебра. Один из них, святой Деметрий, волновал Григория еще мальчишкой – солдат-мученик, сжимающий большой, в драгоценных камнях меч. Григорий видел его благородным рыцарем, и в один из дней, пытаясь получить благословение своей любви, он засунул кусочек бумаги, где его имя соединялось с именем Софии, в узкую щель между иконой и иконостасом.
Шла литургия. Под песнопения мужских голосов верующие подходили к алтарю, опускались на колени и получали облатку и вино, которые священник доставал из-за алтаря. Небольшое пространство было переполнено, и Григорий не думал, что София узнает его, – так сильно он ушел от воина города, которого она в последний раз видела семь лет назад. Он не участвовал в этом таинстве с той последней – и единственной – битвы, в которой сражался за этот город, со дня его позора. Но непроизвольно перекрестился, склонил голову, убаюканный гармониями полузабытых молитв.
Возможно, его вымотало долгое бдение под ее окном. Но когда он вздрогнул и поднял голову, толпа уже рассеялась, а София исчезла.
Григорий растолкал замешкавшихся в дверях, побежал к арке, выскочил на площадь. Проблеск зеленого завернул за угол, не тот, откуда они пришли. Другой. Ведущий к Золотому Рогу, куда они шли семь лет назад. Григорий побежал. Один поворот, другой… и он потерял ее! Пробежал еще один перекресток – там было пусто, только улицы с полуразрушенными домами, дверные проемы и осыпавшиеся стены. Выругавшись, Григорий выбрал улицу, ведущую прямо, ту, по которой они когда-то шли. Он сделал три шага, миновал первый портик и услышал голос из теней:
– Григорий…
Он резко обернулся. Мысли сорвались лавиной. Наказание, назначенное за разоблачение, бросило руку к кинжалу, а мысли – к побегу. Но он потерялся в воспоминаниях, и из них пришел голос, тихо произнесший его имя.
– София…
Сзади послышались другие голоса. Протянувшаяся рука втащила его в темноту.
Время исчезло. Он снова был юношей, прижимался к своей величайшей страсти. И он же был самим собой, и та, на кого он смотрел, была не девушкой, а женщиной, со следами забот вокруг глаз.
– София, я…
– Шшш…
Палец на его губах, когда голоса стали громче. Двое мужчин, идут по переулку. Один заметил их и вскрикнул: «Эй, что вы там делаете?»
Если его разоблачат – смерть. Григорий собрался обернуться, напрячься, готовиться сражаться или бежать. Но София быстро удержала его, высунулась из-за его плеча и заговорила:
– Муж в море уходит. Оставь нас в покое, лады?
Она говорила, как рыбачка из гавани. Мужчины рассмеялись, один поклонился, и они пошли прочь; эхо скабрезных намеков звучало на брусчатке, пока не исчезло за углом.
– Григорий, – повторила София уже другим тоном, в нем слышалось удивление. – Как…
Мужчина отступил, припоминая – этот переулок соединял две площади.
– Не здесь, – сказал он. – Пойдем.
София не замешкалась, вышла из дверного проема. Теперь он вел ее – по круто уходящей вниз улице, через площадь, в переулок, который изгибался к кромке воды. Дом рухнул, на пути торчали обломки, и Григорий остановился, взял ее за руку и помог перебраться. Они прошли пустой клочок земли, и он отыскал щель между двух стен, которую нашел много лет назад. Башня стояла стражем береговой линии, но внутри никого не было, и засовы на калитке легко поддались, несмотря на ржавчину. Григорий провел ее внутрь, на каменную плиту, к солнечному свету, который пробивался сквозь прорехи в облаках.
София огляделась.
– Но это же…
– Да. Я не смог придумать другого места. – Он указал мимо нее. – Если ты предпочитаешь…
– Нет, – выпалила она, не дойдя до двери, поежилась. – Здесь холоднее, чем… чем раньше.
Григорий потянулся к шее, расстегнул плащ.
– Возьми, – сказал он и накинул плащ ей на плечи.
– Спасибо.
Молчание, взгляды. Так много нужно было сказать, и ни один из них не мог сосредоточиться на чем-то одном… Потом оба заговорили.
– Я думала, ты…
– Ты совсем не изменилась…
Оба снова замолчали. Потом София увидела, как он набирает в грудь воздух, и успела первой:
– Я думала – мы все думали, – что ты мертв.
– Мы?
Слово несло груз. Но София не подобрала его.
– Твоя мать. И я. Она… она…
– Знаю. Я не знал, пока не вернулся.
Он отвел взгляд, посмотрел вдаль. Там, за открытой водой, призрачная в дымке дождя, поднималась к своей самой высокой точке, Башне Христа, генуэзская колония Галата.
– Она хорошо умерла?
– Наверное… Наверное, да. Она стала монахиней, умерла в монастыре. Во сне, так мне говорили.
– Монахиней?
Обычный путь вдовы, уйти от жизни в молитвы и размышления. Но у его матери всегда был хриплый смех. И Григорий не мог представить его замкнутым в келье.
– И она приняла обеты после слухов о моей смерти? Или после известия о моем предательстве?
София вздрогнула от его тона.
– Она не верила… ни один из нас не верил. А когда Феон вернулся и сказал, что были сомнения…
– Феон! – выкрикнул он имя, оборвав ее. – Мой любимый брат. Мой… запоздавший брат.
Ненависть, которую он почувствовал в дверях, вспыхнула с новой силой; ему пришлось отвернуться от Софии, ощущая отсутствие собственного носа с той же ясностью, с которой он видел ее нос.
Она шагнула к нему, взяла его за руку:
– Никто, знавший тебя, не верил, что турецкое золото в твоих сумках было платой за предательство.
Григорий обернулся к ней, выплевывая слова:
– Ну, солдаты, которые нашли его, поверили. Им хотелось поверить, что Гексамилион, шестимильная неприступная стена, пала всего за шесть дней от предательства. Не от турецких пушек. Не из-за чьей-то небрежности с калиткой. А монеты, которые достались мне во время контратаки на турецкий лагерь, подтвердили их веру. И полевой суд вынес приговор. А мой брат… мой любящий брат пришел как раз вовремя, чтобы удержать их от второй части приговора. – Он дико расхохотался. – О, мы оба знаем, как он убедителен, верно? Он просил о моей жизни – и победил. Смягчил мое наказание. Отправил меня в мир без имени. Без…
Григорий закашлялся, умолк. На мгновение он оказался не здесь, а в том времени и месте, которое видел теперь только во сне. Провалился в ту минуту, когда с него содрали шлем, схватили за руки и зажали лицо, чтобы он не смог уклониться от ножа мясника. Ему не была дарована тьма забвения – ни тогда, ни с тех пор. Только чистая боль, которая временами приходила и после, хотя болеть уже было нечему. Как будто зазубренное лезвие так и не перестало двигаться, топя Григория в собственной крови, разрывая хрящи, отрезая нос…
София придвинулась ближе, снова взяла его за руку:
– Феон сказал, что, если б Константин… если б наш будущий император был здоров и не лежал на корабле в горячке, он тоже пришел бы, остановил…
– Что ж, он тоже опоздал бы, – резко ответил Григорий, вырывая руку. – Ибо я уже был изуродован. И никакие мольбы не вернули бы мне мой нос. Или мое имя. Мой город. Мою мать. – Он трясся, голос его взлетал все выше. – Или тебя.
Вот оно, высказанное, почему-то худшее из всех обвинений. С того момента, как София поняла – он не призрак, она знала, что ей придется на это ответить.
– Григорий, у меня не было выбора. Ты должен это понимать. Соглашение, заключенное между нашими семьями, подписанный контракт…
– А как же наше соглашение? – взревел он. – Наш контракт? – Развел руки. – Запечатанный здесь, на этом камне. Обеты, данные Богу, связанные нашими телами…
София отвернулась, но Григорий встал перед ней, держа ее за руки, ища ее взгляда, который метался по сторонам.
– Знает ли он об этом обете, твой муж, мой запоздавший брат?
Она встретилась с ним взглядом. Перестала вырываться.
– Нет. Хотя иногда… иногда мне кажется, он подозревает.
– Почему? С чего? – Он начал яростно трясти ее. – Ты что, призналась?
– Почему? – повторила София, вырвалась, отошла, отвернулась от него к воде.
Паника ушла так же быстро, как возникла. Она всегда знала: если он каким-то чудом окажется жив, однажды ей придется это сказать. Она уже сказала это молча. Святой Деве. Святой Марии Монгольской. Но больше никому. Сейчас она собиралась сказать ему.
– Потому что мы сделали кое-что еще, Григорий, когда занимались здесь в тот день любовью.
Дождь полил сильнее. Опять похолодало. Но не холод внезапно сгладил его гнев, будто выпавший снег.
– Что… что ты говоришь?
– Только одно. Иногда, когда Феон смотрит на нашего сына, мне кажется, он видит призрак. – София обернулась к нему, встретила его взгляд над маской. – Твой призрак.
У Григория ослабли ноги, опустив его на камень.
– Ты хочешь сказать… – прошептал он. – Но как?
– Как? – переспросила София с чуть заметной улыбкой. – Ты знаешь как. Сидя там, где ты лежал, ты должен вспомнить. – Улыбка исчезла. – И когда Феон раньше времени вернулся с войны с посланиями… и новостями, я еще не видела жизни во мне. Я была молода и не разобрала признаков. А когда поняла, когда я узнала…
Она умолкла, посмотрела мимо него.
– Мы были женаты всего неделю. А когда ребенок родился, он был мал и сошел за рожденного раньше срока. – София подошла, опустилась на колени рядом с ним, низко склонившим голову. – И он прекрасен, Григорий. Наш сын. Прекрасен, как его отец…
Когда она замолчала, он поднял голову:
– Был. Ты собиралась сказать «был».
– Есть, – ответила София. Подняла руку, коснулась пальцами края маски. – Позволь мне увидеть.
– Нет.
Это было уже слишком. Григорий вдруг вспомнил другую женщину, для которой снял маску, в Рагузе, два месяца назад. Лейла смотрела на него так, как не смотрела ни одна женщина… с того полудня, когда он в последний раз сидел на этом камне. Она смотрела с жаждой, которая поразила его. Она смотрела с любопытством, но без жалости. Он не сможет вынести жалость, которую наверняка увидит в глазах Софии. Все, что угодно, только не это. И потому Григорий схватил ее за руку, отвел в сторону, встал. Она поднялась вместе с ним, и он заговорил:
– У тебя есть и другой ребенок, верно? Я видел ее в твоем окне.
– Минерва. Ей пять.
– Дочь Феона?
– Феона? – растерянно начала она. – Конечно, она дочь Феона… Что ты имеешь в виду?
Он видел искры гнева в ее глазах. И его злость стояла вровень.
– Я имею в виду, что ты вышла за мужчину, когда носила ребенка его брата. Что у предательства бывает много… физических форм. Одно здесь, – выговорил Григорий, указав на свое лицо, потом показал на ее живот, – другое здесь.
София вскрикнула, подняла руку, будто собираясь его ударить. Он схватил ее за руку и держал, пока она пыталась вырваться, потом внезапно отпустил. Женщина пошатнулась, но удержалась на ногах, опустила взгляд, словно искала ракушки на камнях. Только уверившись, что может говорить, она подняла голову и вновь посмотрела на него.
– Я буду молиться за тебя святой Марии.
– Молись дьяволу, – выкрикнул он, – потому что сейчас я принадлежу ему.
Она пристально посмотрела на него.
– Ты изменился, Григорий.
– Правда? Ты так думаешь? – выплюнул он. – Наверное, ты не имеешь в виду мое уродство. Для этого ты слишком благородная дама… Но погоди, ты же хотела посмотреть? – Он сдернул маску. – Я склоняюсь перед твоей просьбой.
Пальцы, дотянувшиеся до узла, не дрожали. В одно мгновение, эффектным жестом уличного фокусника, Григорий снял костяной нос. Он не знал, что видит в ее глазах, но счел это жалостью и воспользовался этим, чтобы собрать свой гнев. Голос его стал низким и грубым.
– София, окажи мне одну любезность. Помяни меня в своих молитвах таким, каким запомнила в тот день. А потом забудь меня навсегда и больше не молись обо мне.
Она отвернулась, сбросила плащ, который лег на камни сплющенным телом, пошла к двери и исчезла. Григорий повернулся к воде и запрокинул голову к непрерывному дождю, чувствуя, как капли проваливаются в него. Поперхнулся, закашлялся, посмотрел на суда. «Я хочу оказаться на одном из них, – подумал он. – Но сначала мне нужна моя плата. Этот город забрал все остальное. Пусть даст хотя бы ее».
Он больше не был Григорием. Тот человек умер – здесь, на камнях, там, под зазубренным ножом. С этой минуты он только Зоран-наемник. И ему нужно золото.