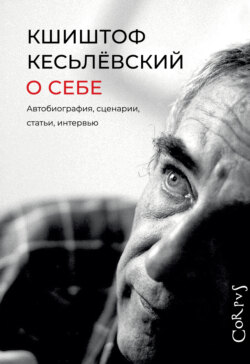Читать книгу О себе - Кшиштоф Кесьлёвский - Страница 6
Автобиография
О себе[2]
Глава 1
Возвращение домой
ОглавлениеВ варшавском аэропорту, как всегда, полчаса ждем багажа. Лента транспортера ходит по кругу, и вместе с ней кружатся окурок, зонтик, наклейка отеля “Мариотт”, пряжка от чемоданного ремня и чистый белый платок. Тут запрещено, но я закуриваю. Рядом на единственных четырех стульях все это время сидят четыре носильщика.
– Здесь нельзя курить, шеф, – замечает один.
– А сидеть и бездельничать можно? – спрашиваю.
– Бездельничать в Польше всегда можно, – отзывается другой.
Они гогочут. У одного не хватает двух верхних зубов, у другого – клыков и второго справа. У третьего зубов нет совсем, но он и постарше, за пятьдесят. У четвертого, лет тридцати, все зубы на месте. Багажа я жду еще минут двадцать, в общей сложности – около часа. Поскольку мы теперь знакомы, носильщики ничего не говорят, когда я закуриваю вторую.
В центре Варшавы тысячи торговцев продают с машин мясо, полотенца, обувь, хлеб и сахар. Проще что-нибудь купить, чем пройти мимо. На тротуарах разложены товары из Западного Берлина, из самых дешевых магазинов – “Билки”, “Квелле” – или от кройцбергских турок. Шоколад, телевизоры, фрукты – все на свете. Стоит дядька с банкой из-под пива.
– Пустая? – спрашиваю.
Он кивает.
– Сколько?
– Пятьсот злотых (старых).
Впечатленный, на мгновение задумываюсь, и дядька, видимо, решает, что я готов купить. Уговаривает:
– За четыреста отдам.
Спрашиваю:
– Да зачем мне пустая банка из-под пива?
– А это уж ваше дело. Купите – и делайте с ней, что хотите.
Моя любовь к Польше сродни любви в долгом браке – муж и жена все друг о друге знают, слегка друг другу поднадоели, но если не станет одного, через месяц умрет и другой. Честно говоря, не представляю себе жизни без Польши. Мне трудно на Западе, несмотря на прекрасные условия; несмотря на то, что на дорогах водители любезно пропускают, а в магазинах говорят “добрый день”. Все равно, думая о будущем, не представляю себя где-нибудь, кроме Польши.
Я не чувствую себя гражданином мира – продолжаю ощущать себя поляком. В сущности, все, что касается Польши, касается и лично меня: у меня не возникло дистанции, позволяющей относиться к этому отстраненно. Политические игры меня уже не касаются и не волнуют, а Польша – да. Это мой мир. Из него я вышел, и в нем, скорее всего, умру.
Когда я не дома, это всегда означает – ненадолго, проездом. Даже прожив за границей год или два, не могу избавиться от ощущения временности. Иначе говоря, приехав в Польшу, я чувствую, что вернулся, понимаю, что возвратился. У человека должно быть место, куда он возвращается. Для меня это Польша, дом в Варшаве, дом в Кощеке на Мазурах. Приехав в Париж, я не чувствую, что вернулся. В Париж я приезжаю. Возвращаюсь только в Польшу.
Отец был для меня самым главным – возможно потому, что так рано умер. Мама тоже была важна; во многом из-за нее я и решил пойти учиться в Лодзинскую киношколу.
Помню, как поступал туда во второй раз. Мы с мамой договорились встретиться после экзамена в Варшаве, на Замковой площади, у эскалатора. Она, наверное, надеялась, что меня примут, но я уже понял, что и на этот раз тоже ничего не получится. Поднялся на эскалаторе, вышел на улицу. Лило как из ведра. Мама промокла насквозь. Я сказал, что опять провалился; она страшно расстроилась. “Послушай, – говорит, – а может, ты просто не годишься для этого дела?” Не знаю, плакала она или так казалось из-за дождя, но мне стало ее ужасно жалко. Именно тогда я и решил поступить во что бы то ни стало. Докажу им, что гожусь. Хотя бы ради мамы, раз она так огорчается.
Мы жили довольно бедно. Отец – инженер-строитель, мама – служащая. Отец был болен туберкулезом и двенадцать послевоенных лет от этого туберкулеза умирал. Ездил по санаториям, а мы с мамой и сестрой за ним, хотели быть все вместе. Отец лежал в санатории, а мама находила работу поблизости в какой-нибудь конторе. Потом отца отправляли в другой санаторий, мы перебирались на новое место, и мама работала в конторе там.
В жизни очень многое зависит от того, кто в детстве за завтраком давал тебе по рукам. То есть кто был отец, кто бабушка, кто прадед. Вообще, откуда ты взялся. Это очень важно. Кто давал по рукам за завтраком, когда тебе было четыре года, и кто позже положил тебе первую книжку под елку или на тумбочку у кровати… Книги, которые мне доставались, в огромной степени меня сформировали. То есть научили чему-то очень важному. Пожалуй, я даже знаю чему: чувствовать. И пожалуй, знаю зачем.
В отрочестве у меня были слабые легкие, опасались туберкулеза. Конечно, я, как все мальчишки, часто играл в футбол, катался на велосипеде, но из-за болезни проводил много времени на балконе или веранде: укрытый пледом, дышал свежим воздухом. У меня оставалось полно времени для книг. Вначале мне читала мама. Потом, довольно быстро, я научился читать сам. Порой по ночам, при свете ночника или свечки, иногда под одеялом. Часто до утра.
Конечно, мир, в котором я жил, мир моих приятелей, велосипедов, беготни, катания на лыжах, смастеренных из обручей для бочек, в которых квасили капусту, – это был настоящий мир. Но не менее настоящим был и мир книг, мир историй. Не скажу, что это был мир Достоевского и Камю, хотя они тоже присутствовали, – нет, это был мир невероятных приключений, индейцев, ковбоев и Тома Сойера. Плохая литература вперемешку с хорошей. И то и другое я читал запоем, и сомневаюсь, что Достоевский дал мне тогда больше, чем третьеразрядный американский автор ковбойских романов. Я бы вообще не стал разделять прочитанное. Благодаря чтению я рано узнал, что существует нечто больше, чем то, что можно потрогать или купить в магазине.
Я не из тех, кто хорошо запоминает сны. Честно говоря, проснувшись, я их не помню – если вообще что-то снилось. Но в детстве, разумеется, снилось, что снится всем. Страшные сны, в которых я тщетно пытался откуда-то выбраться или кто-то за мной гнался. Конечно, как все дети, я летал во сне. Эти детские сны, цветные и черно-белые, я помню хорошо, хотя и как-то по-особому. Пересказать их я бы не сумел, но если какой-нибудь из них снится теперь – а они мне снятся, и хорошие, и плохие, – я сразу понимаю, что это тот, из детства.
Но есть кое-что другое, для меня, думаю, более важное. В моей памяти хранится множество событий, о которых я не могу сказать, произошли они на самом деле или кто-то мне о них рассказал. То есть я присваиваю случившееся с другими, зачастую забывая даже, у кого позаимствовал, у кого украл ту или иную историю. Краду и начинаю верить, что сам это пережил.
Всю жизнь помню несколько случаев из детства, которых точно не было, но я абсолютно уверен, что были. Никто из родных не в состоянии объяснить, в чем тут фокус, – то ли это старый сон, который задним числом материализовался и стал явью, то ли я неосознанно присвоил чей-то рассказ.
Например, прекрасно помню историю, которая недавно вспомнилась мне вновь, когда мы с сестрой и дочкой отправились кататься на лыжах. Проезжали Горчице, маленький городок на “возвращенных землях”, в [3]котором эта история случилась в 1946 или 1947 году, когда мне было лет пять или шесть. Хорошо помню, как мама повела меня в детский сад. Навстречу нам по улице шел слон. Прошел мимо и пошел дальше. Мама уверяла, что ничего подобного быть не могло. Да и откуда в 1946 году в послевоенной Польше, где картошки было не достать, – слон? Тем не менее я прекрасно помню эту сцену и выражение его глаз. Я совершенно убежден, что однажды, когда мы с мамой шли в детский сад, нам встретился слон. Он свернул налево и исчез. А мы пошли прямо. На слона никто не обращал внимания. Я уверен, что это было, хотя мама утверждала, что не было.
Есть истории, которые я краду и начинаю рассказывать, как будто это произошло со мной. И через какое-то время теряю контроль – начисто забываю, что история чужая, и начинаю сам верить, что она случилась со мной. Наверное, подобный механизм сработал и в истории со слоном. Вероятно, мне кто-то ее рассказал.
Недавно я засек, как это происходит. Дело было так: я отправился в Америку, где большая компания “Мирамакс” готовила прокат “Двойной жизни Вероники”. Фильм показали на нью-йоркском фестивале, и мне вдруг стало ясно, что американцы не понимают финала. Там есть сцена, когда Вероника возвращается в родимый дом, где живет ее отец. Но напрямую не сказано, что она приехала в отчий дом. Это подразумевается. Я знаю, что здесь, в Европе, сомнений ни у кого не возникает. В отличие от Америки. Для американцев вовсе не очевидно, что героиня возвращается в дом своего детства. Не очевидно, что человек в этом доме – ее отец. И уж во всяком случае, им не очень понятно, зачем, собственно, вообще туда возвращаться.
Для нас, европейцев, возвращение в родной дом обладает ценностью, укорененной в традиции, истории, культуре. О возвращении домой рассказывает, например, “Одиссея” – если обратиться к древности. Очень часто в литературе, театре, культуре родной дом становился воплощением некой системы ценностей. А для нас, поляков, людей весьма романтичных, это место значимо особенно, это существенный пункт нашей жизни. Поэтому в фильме такой финал. Но в Америке, оказалось, его никто не понимает, и я предложил сделать другой, чтобы американцам сразу было ясно: героиня возвращается в отчий дом. Перемонтировал последнюю сцену. А потом задумался: почему же все-таки они сами не поняли? Я не знаю Америки. Не понимаю ее. Но все же попытался разобраться, в чем тут дело. И вспомнил одну историю.
Я рассказал ее разным людям – журналистам, прокатчикам, коллегам. Но, рассказав несколько раз, вдруг понял, что ничего подобного никогда со мной не происходило: это история моего знакомого, которую я выдаю за свою. Мало того, что я ее присвоил, мало того, что уверяю всех, что она случилась со мной, я еще и сам в это поверил. И тут я осознал, что просто украл ее.
Обычно я рассказывал это так. Я будто бы лечу в Америку и рядом со мной в кресле – незнакомый тип. Настроения беседовать нет, хочется поспать или почитать книжку. Но сосед оказывается словоохотливым и заводит разговор. Ну, что поделаешь…
– Чем занимаешься? – спрашивает он.
– Снимаю кино, – говорю.
– Как интересно!
– Да, – отвечаю.
– Знаешь, а я делаю окна, – говорит он. – Это тоже очень интересно.
– Да, необычайно.
Конечно, я произнес это с иронией, но он ее не уловил и начал рассказывать. Оказалось, окна он делает в Германии, живет там же. Мы прекрасно друг друга понимали, потому что английским владели одинаково.
Так вот, он – владелец лучших, крупнейших в Германии фабрик по производству окон. Довольно дорогих, с гарантией на пятьдесят лет. Немцы, разумеется, охотно их покупают – они люди практичные и верят, что если дается гарантия на полвека, значит, окно полвека точно прослужит. Добившись блестящего успеха в Германии, этот человек, как всякий в чем-то преуспевший европеец, захотел повторить его и в Америке. И открыл там фабрику.
И вот он мне рассказывает: “Слушай. Я действительно делаю фантастические окна. Даю пятьдесят лет гарантии. Продаю по разумной цене. И – ни одного желающего. Ни единого. Я вложил уйму денег в рекламу: в прессе, на телевидении, где угодно. Рассылал буклеты, каталоги. Никто не покупает мои окна. Тогда я уменьшил гарантию до двадцати лет, а цену оставил прежнюю. И знаешь что? Дело пошло на лад. Снижаю гарантию до десяти лет, цена опять-таки прежняя – продажи увеличиваются в четыре раза. Вот теперь лечу в Америку открывать вторую фабрику. Гарантия пять лет, цена та же. Почему американцы предпочитают окна с гарантией пять лет, а не на полвека? Да они просто не представляют себе, как можно пятьдесят лет просидеть на одном месте”.
То есть идея родного дома как места, в котором сменяется поколение за поколением, американцам непонятна. Сами они без конца переезжают. И эту историю я принялся рассказывать в качестве своей собственной, объясняя отношение американцев к отчему дому.
Через какое-то время спохватился, что история чужая. Но поскольку была мне очень кстати – я ее присвоил. Спросите, как выглядел тот немец, якобы сидевший рядом со мной в самолете, – и я опишу его во всех подробностях, хотя никакой немец рядом не сидел. Но теперь это мой немец. Я его присвоил.
Думаю, мы храним в памяти очень многое, не отдавая себе отчета. Если долго и настойчиво пытаться, можно воскресить забытые образы и события. Нужно только очень хотеть и упорно стремиться к этому.
У меня есть такие “восстановленные” образы. Например, никто не мог рассказать мне о немце, набиравшем воду из колодца. Я вижу эту картину: он прикладывается к воде губами, жадно пьет, откидывает голову назад, каска сползает, он придерживает ее рукой. И все, ни начала, ни продолжения. Картинка всплыла в памяти, когда я старался вспомнить раннее детство.
Потом немцы стали всех выселять. Мы уехали. После войны жили на “возвращенных землях”. В разных местах. Для нашей семьи это было хорошее время. Отец еще чувствовал себя прилично, работал. Последние годы, когда здоровье ему позволяло. У нас был дом. Настоящий, большой. Я ходил в детский сад. Жизнь складывалась неплохо. Раньше в нашем доме жили немцы. До сих пор у меня хранятся немецкий ножик и набор циркулей. Отец ими пользовался, когда чертил, а потом циркули достались мне. Помню еще немецкие книги. Одна из них, “Горы под солнцем”, стоит у меня на полке по сей день.
Где мы провели военные годы, не знаю, а теперь уже и спросить некого. Сохранились письма, какие-то документы, но ни один не проясняет, где именно мы жили. Сестра тоже не знает. Она родилась через три года после меня, в конце войны, в 1944 году. Известно, что место рождения – Стшемешиц, на границе той части Силезии, которая до войны принадлежала Польше. Во время войны это уже не имело значения – немцы были повсюду.
В Стшемешице жила бабушка по отцу. У нее мы и поселились, в какой-то маленькой комнатушке. Она прекрасно знала немецкий и русский и, поскольку в первые послевоенные годы особого спроса на учителей немецкого не было, стала преподавать русский. Я даже ходил в школу, где она работала.
Школ я сменил столько, что часто их путаю. Не помню, где в каком классе учился. Переходил из школы в школу два-три раза в год. В Стшемешице ходил, кажется, во второй или в третий класс, мне было лет восемь-девять. Потом мы опять жили там, когда я учился в четвертом или в пятом. Успевал хорошо, хотя ни подлизой, ни зубрилой не был. Честно говоря, четверки и пятерки доставались мне без особого труда. Думаю, одноклассники меня любили – я им помогал, давал списывать, подсказывал.
Уровень провинциальных школ был тогда очень низким. Мне все давалось легко. Учеба не отнимала много времени. Ничего из пройденного в памяти не осталось. Даже таблицу умножения знаю нетвердо. Пишу с ошибками. Мало что выучил. Разве что несколько исторических дат.
Мы еще несколько раз возвращались в Стшемешице. Уезжали куда-то, потом снова приезжали – здесь всегда можно было перекантоваться. Жуткое местечко. Недавно я там побывал. Нашел наш дом, двор. Конечно, все оказалось меньше, мрачнее, грязнее, чем виделось тогда.
Не помню, чтобы в детстве кто-нибудь особенно плохо ко мне относился. Изредка били, вернее, пытались – обычно я успевал удрать. Как раз в Стшемешице, зимой, когда мы вечером возвращались с катания на санках или из школы. Была там компания мальчишек, у которых чесались руки мне надавать. Я был внуком учительницы – она время от времени ставила им колы, и они за это хотели отлупить меня. Никогда не рассказывал бабушке, так что точно не знаю, может, дело было не в отметках. Может, лупили за то, что не силезец. Верхняя Силезия – регион довольно специфический. Адаптироваться там было трудно – силезцы говорили по-силезски и легко отличали “чужака”.[4]
Нас с сестрой часто отправляли в так называемые профилактории для детей, предрасположенных к туберкулезу или просто ослабленных. Там был климат получше и более-менее приличное питание. Кормили по тем временам действительно неплохо. По утрам пару часов были уроки.
Вероятно, мы туда ездили потому, что родители едва сводили концы с концами. Отец все время болел. Мама зарабатывала всего ничего. А профилактории, скорее всего, были бесплатными. Родители страшно переживали эти разлуки, но другого выхода наверняка не было. При малейшей возможности они нас навещали. Мы с сестрой очень этого ждали. Обычно приезжала мама – отец подолгу не вставал с постели. Я их любил, и, думаю, они меня очень любили, поэтому жить в разлуке было тяжело. Но что поделаешь. Так сложилось.
Мы жили то в одной дыре, то в другой – в такой глухомани, куда даже коммунистическая власть не добралась. Я там ни разу не видел милиционера. Население – несколько сот человек. Учитель. Водитель автобуса, возившего в городок чуть покрупнее раз или два в день. И все. Нет, еще, конечно, директор санатория – наверное, партийный, – но его я, кажется, никогда не встречал. Понятия не имею, где я был, когда умер Сталин. Меня это не интересовало. Не уверен, что знал о его смерти. Скорее всего, нет.
Первый западный фильм (а может, это я тоже вообразил позднее) я посмотрел в Стшемешице. По-моему, “Фанфан-тюльпан” с Жераром Филиппом. Это была невероятная сенсация, потому что обычно показывали чешские, русские или польские фильмы. Я был еще маленьким – лет семь, может, восемь, – а на эту картину пускали, кажется, с шестнадцати. Как быть? Родители хотели, чтобы я посмотрел. Считали, что фильм хороший и мне понравится. Мой двоюродный дедушка (я называл его “дядей”), известный в городке врач, специально пошел на сеанс. Решил, что мне тоже можно, воспользовался своим авторитетом врача и договорился с директоршей кинотеатра, чтобы меня пустили. И я пошел. Но саму картину совершенно не помню. А ведь так готовился, так переживал – боялся, что не пустят.
Еще раза три мы жили в Соколовско, возле Еленя-Гуры, в Нижней Силезии. Из местечек моего детства это запомнилось мне лучше всего. Там тоже был санаторий, где лежал отец. Собственно, Соколовско был курорт – больше там ничего не было. Курорт, конечно, сильно сказано. При слове “курорт” мы представляем себе что-нибудь вроде Канн. На Канны это похоже не было. Крохотный городок с двумя или тремя санаториями. Ни одного силезца: либо бежали, либо были выселены после войны. Все население – около тысячи человек: большинство – пациенты и человек двести персонала с семьями. С детьми.
Там был зал, где проходили театральные гастроли и показывали кино. Приличный зал в Доме культуры, с хорошими проекторами и большим экраном. Показывали и фильмы для детей. Проблема заключалась в том, что купить билет мне – как и большинству моих приятелей – было не на что. Родителям было не по карману давать нам на кино. Иногда, конечно, давали, но редко. Поэтому мы забирались на крышу. Там имелось что-то вроде большого воздуховода – труба с отверстиями по бокам. Через них можно было отлично плевать на зрителей. Наверное, мы делали это из зависти. Злились, что они могут пойти в кино, а мы – нет.
Виден оттуда был только кусочек экрана. С моего места – нижний левый край: полметра, в лучшем случае метр. Иногда удавалось разглядеть ногу актера, если он стоял, или руку и голову – если лежал. Звук к нам долетал, так что в происходящем на экране мы кое-как ориентировались. И так смотрели. Поплевывали вниз и смотрели кино. Нас с этой крыши гоняли. Попасть на нее ничего не стоило: местность там гористая, крыша Дома культуры прилегала к горе, на которую мы без труда взбирались, потом залезали на дерево, а оттуда уже на крышу, и там проходили все наши детские игры.
По крышам я много лазил. У меня был приятель, паренек из Варшавы, который все свободное время проводил на крышах. Если удавалось достать вино или водку, он считал, что пить надо непременно на крыше. Они с приятелями забирались на самую верхотуру, я с ними, – и там, в вышине над городом, попивали винцо.
Позже я много колесил в поисках мест моего детства. Хотел встретиться со старыми друзьями, но, приехав, обнаруживал, что желание пропало. Осматривал знакомые места и уезжал обратно. Мне казалось, это хорошая идея – повстречаться, повидаться с людьми, которых не видел тридцать или сорок лет. Поглядеть друг на друга, узнать, кто кем стал. Жизнь у нас совершенно разная, но именно это и интересно. Рассказали бы друг другу про свое житье, про то, что произошло за это время. Но после нескольких таких встреч желание ездить у меня исчезло. Честно говоря, я испытал какую-то неловкость. У меня неплохо идут дела, хорошая машина. А тут трущобы, нищета, запущенные дети. Наверное, мне немного повезло. Пусть всего пару раз за всю жизнь, но им и того не досталось. Думаю, стали бы мы встречаться – им тоже было бы не по себе. Но поскольку идея встретиться была моей, то я и столкнулся с проблемой.
У родителей не хватало денег, чтобы отправить меня учиться в другой город и платить за жилье и содержание. А я и не хотел учиться. Считал, что уже знаю все, что нужно, – как, наверное, думает каждый в этом возрасте. Среднюю школу я окончил в четырнадцать или пятнадцать. Год пробездельничал. Мой отец, который был мудрым человеком, сказал: “Ладно, иди в пожарное училище. По крайней мере, получишь профессию и будешь работать”.
Работать я хотел. Училище предоставляло бесплатное общежитие с питанием, и поступить было очень легко. Отец прекрасно понимал, что после школы пожарников я заговорю по-другому. И конечно, оказался прав. Прошло месяца три, может, полгода. Я вернулся с желанием учиться во что бы то ни стало. И ходил потом в школу, а позже еще в одну.
В варшавский Государственный театрально-технический лицей я попал случайно. Его директором был наш дальний родственник, которого я раньше не знал. Родители то ли написали, то ли съездили к нему. Это было потрясающее место, лучшее из всех, где мне довелось учиться. Сейчас таких, к сожалению, больше нет. Как все хорошее, лицей вскоре закрыли. Там были замечательные учителя. Тогда в Польше – думаю, и в Европе тоже – было не принято, чтобы преподаватели относились к ученикам как к младшим коллегам. А здесь было. Они были добры к нам и мудры. Открыли нам, что существует такая вещь, как культура. Советовали читать книги, ходить в театр и кино. Не сказать, чтобы это было принято – во всяком случае, в моем кругу, среди моих приятелей. Я вообще ничего не знал, кроме провинции. А тут вдруг оказалось, жизнь можно прожить иначе. Вот – роль случая. Окажись мой дядя директором какого-нибудь другого училища, учился бы я там, и жизнь сложилась бы совсем по-другому.
Отец умер от туберкулеза в сорок семь – был моложе, чем я теперь. Он болел на протяжении двадцати лет и, думаю, уже не хотел жить. Болезнь не позволяла ему работать, нести ответственность за семью, чего-то достичь в своем деле, дать любимым и близким то, что он мог бы дать. Мы с ним об этом не разговаривали, но я уверен, что не ошибаюсь. Отец был человеком ответственным. Могу его понять.
Мама перебралась в Варшаву. В конце шестидесятых – начале семидесятых зацепиться там было очень сложно, прописки не давали. Но постепенно мама как-то устроилась. Жизнь была очень трудной, денег не хватало. Мне, впрочем, тоже. Потом уже я сумел немножко ей помогать.
Мамы не стало в шестьдесят семь. Она погибла в автокатастрофе; за рулем сидел мой друг. Это был 1981 год. Так что родителей я потерял довольно давно. Впрочем, мне пятьдесят, мало у кого в таком возрасте есть родители. Я о стольких вещах не успел с ними поговорить. А теперь уже поздно. Есть сестра. Мы видимся не очень часто – мне просто не хватает времени. Я уже несколько лет ни с кем близко не общаюсь. Все время работаю.
Мне кажется, у нас с сестрой много общего. В детстве мы были неразлучны. В той жизни с постоянными переездами, новыми школами, болезнью отца наша близость была очень важна. Близость с мамой и сестрой. Мы теперь часто пытаемся вспомнить какие-то события из прошлого, и не можем. Не можем чего-то понять. Не можем восстановить ход событий – и уже никогда не сможем. Главные действующие лица умерли и не расскажут, как было дело. Все кажется, что впереди полно времени. Что как-нибудь потом, при случае…
Отношения с родителями всегда складываются несправедливо. Когда родители в расцвете сил, энергичны, полны жизни, любви, мы их не знаем, потому что нас еще нет. Или мы еще слишком малы, чтобы это оценить. А потом, когда вырастаем и начинаем что-то понимать, они стареют. Теряют былой запал. Прежнее жизнелюбие. Позади множество разочарований и неудач – осталась горечь. У меня были потрясающие родители. Просто потрясающие. Но я не смог вовремя их оценить. По молодости, по глупости…
Позже нам не хватает времени на любовь к родителям, потому что возникают собственные заботы. Свои семьи, свои дети. Конечно, мы стараемся почаще звонить и говорить: “Мама, я люблю тебя”. Но дело ведь не в этом. Мы уже сами по себе. А по-настоящему нужны родителям рядом. Они все еще считают нас детьми, которых следует постоянно опекать. Мы же стараемся из-под этой опеки вырваться – и имеем на это право. Поэтому я и говорю, что отношения между детьми и родителями всегда несправедливы. Но ничего не поделаешь. Ни одно поколение этой несправедливости не избежало. Может, важно ее в какой-то момент хотя бы осознать.
Моя дочь Марта так же несправедлива ко мне. Это в порядке вещей. Она воздает мне за мою собственную несправедливость в отношениях с моими родителями. Разумеется, не нарочно, не осознанно; просто так устроена жизнь, такова человеческая природа. Марте девятнадцать – ее стремление вырваться из дому совершенно естественно. Само собой, у нее есть желания, которые мне не по душе. Но так и должно быть. Это нормально.
Мои родители обладали обостренным чувством справедливости. Отец был очень мудрым человеком, но я мало чем из его мудрости сумел воспользоваться. Только теперь понимаю смысл каких-то его слов и поступков. Раньше я был для этого слишком глуп, слишком молод, слишком легкомыслен или слишком наивен. С дочкой мы о самых важных вещах не говорим или говорим очень редко. Конечно, много разговариваем о всяких житейских делах, но не о том, что действительно имеет значение. Вместо этого я пишу ей письма – в надежде, что они останутся. Сейчас мои письма, возможно, не особо ей нужны, но когда-нибудь, потом…
Хорошо, если отец для ребенка – авторитет, человек, которому можно верить. Это фундаментальная вещь. Возможно, одна из важнейших причин, по которой мы поступаем в жизни так, а не иначе, – желание, чтобы наши дети нам доверяли. Хоть чуть-чуть. Отчасти именно поэтому мы не опускаемся окончательно, не совершаем каких-то злодейств, гадостей. По крайней мере, это в большой степени определяет то, как я себя веду.
Киношкола
В театральном Лицее нам открыли, что существует другой мир. Мир, в котором не имеют значения общепринятые ценности – благополучие, достаток, положение. Мы обнаружили, что человек может осуществить себя в мире, где важны совершенно другие вещи.
Именно поэтому я страстно полюбил театр. В 1958–1962 годах театр в Польше переживал свои лучшие времена. Это была эпоха великих режиссеров, великих спектаклей, великих авторов (в 1956 году в ПНР начали ставить и западных драматургов), великих актерских свершений, великих сценографов. Польский театр был в ту пору театром мирового уровня – притом что, конечно, существовал железный занавес и о таком культурном обмене, как сейчас, не могло быть и речи. В кино еще что-то изредка допускалось. Но в театре было исключено. Теперь-то польские труппы гастролируют по всему свету. А тогда ни о чем подобном не помышляли. Каждый играл на своей сцене, и все.
Мне кажется, сегодня такого театра нет нигде. Я хожу на спектакли в Нью-Йорке, бываю в театре в Париже, в Берлине – нигде не вижу подобного уровня. Конечно, мои воспоминания связаны с юностью, когда я открывал для себя что-то совершенно новое и прекрасное. В теперешних спектаклях я не встречаю такого уровня режиссерской, актерской работы, сценографии, такой изобретательности. А тогда смотрел и не мог поверить, что такое вообще возможно.
Само собой, я решил стать театральным режиссером. Тогда в Польше – как, впрочем, и сейчас – стать театральным режиссером было нельзя, не получив какого-нибудь высшего образования – требовалось окончить институт. Были разные варианты, но я подумал – почему бы не выбрать кинорежиссуру, чтобы уже от нее двигаться к режиссуре театральной? И там режиссер, и тут.
Тем временем я, конечно, работал – надо было на что-то жить. Я уже вырос и не мог брать деньги у мамы, которая сама едва сводила концы с концами. В первый год трудился в секторе культуры райсовета на Жолибоже. Целый год там работал и [5]одновременно писал стихи. Потом год служил в театре костюмером. Это уже было ближе к делу. Но, чтобы не угодить в армию, требовалось где-то учиться. Я поступил на преподавательские курсы. Год изучал рисунок. Делал вид, что хочу быть учителем рисования в школе.
Рисовал я очень плохо. Впрочем, на курсах все рисовали плохо и так же плохо учили историю, польский, биологию, географию. Занимались кое-как. Парни спасались от армии, девушки – по большей части провинциалки – рассчитывали выйти замуж или поработать в варшавской школе и получить прописку. У всех были свои планы. Становиться учителем никто не собирался. А жаль – отличная профессия. Не помню, чтобы встретил на курсах хоть одного энтузиаста педагогики.
И все это время я увиливал от службы в армии. Что мне в конце концов более чем удалось: меня признали негодным к военной службе даже во время войны – редчайший случай. Согласно диагнозу, я страдаю schizophrenia duplex – опасной формой шизофрении, при которой человек, получив оружие, способен тут же застрелить офицера. Эта история еще раз показала мне, как сложно устроены люди. На комиссии я не врал. Только что-то немножко преувеличил, о чем-то умолчал. Получилось убедительно.
Но сначала я худел. Придя на комиссию в военкомат в первый раз, я узнал, что у меня недостаток веса в шестнадцать килограммов. В армии недостатком веса называют все, что больше разницы между ростом и весом минус сто. То есть при моем росте – сто восемьдесят один сантиметр – человек должен весить восемьдесят один килограмм. Так считается в армии. Во мне было шестьдесят пять, так что шестнадцати килограммов не хватало. Поэтому я получил категорию “В” – отсрочка призыва на год по причине плохого физического состояния.
Я был тощий, не более того. Никаких правил я не знал, но решил, что если при недостатке веса в шестнадцать килограммов меня освободили на год, то при недостатке, например, килограммов в двадцать пять дадут белый билет. И принялся усиленно худеть. На протяжении двух месяцев я ел все меньше и меньше. Бегал. И так далее. А последние десять дней вообще ничего в рот не брал. Оказывается, это возможно: я не выпил ни капли жидкости и не съел ни кусочка в течение десяти дней. И вдобавок ходил в общественную баню – ванной у меня не было, я снимал какую-то жуткую каморку под Варшавой. Что так можно заработать инфаркт, я в свои девятнадцать лет не догадывался, да и не придал бы этому значения. Лучше инфаркт, чем армия. После пожарного училища я понял, что униформа – не для меня.
В училище нас не особо донимали, но мне стало совершенно ясно, что я не в состоянии подчиняться жесткой дисциплине, горну, свистку. Я должен завтракать, когда хочу или когда голоден, а не когда положено по распорядку дня. В общем, индивидуалист – как все поляки, а может, и просто сам по себе. Не хочу, чтобы за меня думал кто-нибудь другой, хотя это, наверное, весьма удобно. Так что за решеткой мне бы, пожалуй, пришлось туго. Впрочем, говорят, там свободы побольше, чем в армии.
Итак, десять дней я не ел, не пил и ходил в баню. Там были и сауна, и парилка. Мужчины, разумеется, разгуливали голышом. И ко мне вдруг стал клеиться один тип. Я ходил каждый день или через день и заметил, что он все время норовит ко мне придвинуться. Я подумал – может, педик; у них тут, наверное, место встреч. Придвигался-придвигался, а в один прекрасный день подошел, стал рядом, пихнул локтем и говорит: “Хороший петух – худой петух”. Оказалось – никакой не педик, просто такой же тощий, поэтому считает, что мы оба в своем роде неподражаемы и, следовательно, должны подружиться. Мужик лет пятидесяти, действительно – худой как щепка. Как говорят в Польше, “вчера из Освенцима”. Ужасно, но есть такое польское выражение. Я тоже был как будто вчера из Освенцима.
В последний день я уже едва держался на ногах. Приехала мама. Приготовила бифштекс – и после десятидневной голодовки я съел этот бифштекс. Встал и поплелся на комиссию. Разделся, как положено. Подошел к столу. Недостаток веса у меня теперь был двадцать три или двадцать четыре килограмма. Уже не шутки. Стою. Мне командуют – само собой, по-армейски грубо: “Эй! Чего встал? Туда становись, не сюда”. Поскольку я был не в первый раз, то не раздумывая направился к весам. Иду к весам и слышу за спиной: “Куда пошел?! Сломаны весы. Иди сюда!” И на этом моя авантюра с похуданием закончилась. Ничем.
Пришлось остановиться на шизофрении. Никакой специальной литературы я не читал, ни строчки. Понял, что если начну изображать, врать, меня поймают. Комиссия – дело серьезное: десять дней меня продержали в закрытом военном госпитале и ежедневно по несколько часов допрашивали – иначе не скажешь. Восемь или девять военных врачей.
За полгода до этого я по собственному почину начал ходить в психдиспансер. Записался к врачу, сказал, что плохо себя чувствую, ко всему потерял интерес. Это был мой главный аргумент – ничего не интересует, ничего не хочется.
Я не притворялся – это ощущение преследует меня на протяжении всей жизни, а тогда, во второй раз провалив экзамены в Киношколу, я тем более был подавлен. И мне уже было важнее разделаться с армией, чем поступить.
Зимой я ходил в диспансер раз в месяц. Потом вызвали в военкомат. Спрашивают, нет ли противопоказаний для службы в армии. Я говорю – нет. Встаю на весы. Вес к тому времени я уже набрал. По армейским стандартам не хватало пятнадцати килограммов, но это все-таки не двадцать пять. В конце спрашивают, где я хотел бы служить. Отвечаю, что предпочел бы какое-нибудь тихое местечко.
– Что значит “тихое”? Какое в армии может быть “тихое местечко”? В каком смысле? Почему вдруг тихое?
– Ну я же лечусь в психдиспансере.
– Как это лечишься? Давно?
Я говорю – уже полгода.
– И от чего же ты лечишься?
– Сам не знаю, – отвечаю я. – С головой неважно, вот и лечат. Поэтому хорошо бы попасть в такую какую-нибудь часть поспокойнее.
Они пошептались и говорят:
– Вот тебе направление, поедешь на Дольную улицу, дом номер такой-то, на обследование.
На Дольной был военный психиатрический госпиталь – бок о бок со Студией документальных фильмов.
Там я проторчал в пижаме десять дней, не зная наверняка, кто мои соседи по палате.
На многочасовых допросах я повторял одно и то же: меня ничего не интересует. Врачи, само собой, были очень дотошны. Пытались разобраться. Спрашивали, например:
– А что ты вообще делаешь, если тебя ничего не интересует?
Недавно, говорю, как раз сделал кое-что интересное.
– Что же?
– Смастерил маме розетку.
– Какую розетку?
– Ну, электрическую.
– А что, дома нет розеток?
– Есть, – отвечаю. – Но только одна, а плитки у мамы две. Как быть, если хочешь одновременно приготовить суп и чай? Пришлось сделать вторую.
– Ясно, – говорят. – И как же ты ее сделал?
Я стал рассказывать. Четыре часа объяснял, как соединять проволочки, как обрезать их, как зачищать, как для этого сначала снимать обмотку с кабеля. Все им в деталях растолковал.
– Там идут две жилы. Одна плюс, вторая минус, так? Две, каждая в такой пластиковой оболочке. Чтобы их достать, кабель надо разрезать. Для этого сперва, само собой, поточить нож, а уже потом резать. Но когда надрезаешь кабель, может произойти замыкание. Резать нужно очень осторожно. Потом снимаешь главную оболочку, и вот там внутри эти две жилы, знаете, да? Каждая тоже в своей оболочке. Теперь их по очереди нужно перерезать, чтобы достать проволочки, потому что изоляция тока не пропускает. Ток должен идти по проволочке. А проволочек этих в каждой жиле по семьдесят две.
Тут они встрепенулись:
– Почему семьдесят две? Откуда ты знаешь?
– Я считал – ровно семьдесят две.
Они аккуратно записали, что я эти проволочки посчитал.
– Перерезать их нельзя. Поэтому нож должен быть не слишком острым. И давить сильно нельзя. Затем проволочки надо скрутить, потому что, когда оболочку снимаешь, они жутко топорщатся. Жила состоит из семидесяти двух проволочек, нужно их как следует закрутить. Потом отвернуть винтик, подключить. Собрать все, закрыть корпусом, привинтить розетку к стене – и так далее.
Этот рассказ занимал у меня часа три или четыре. Я объяснял все очень подробно, потому что увидел, как они заинтересовались и стали записывать каждую деталь. Я понимал, что для них это что-то значит, хотя и не знал что.
Потом рассказал, как наводил порядок в подвале. Рассказ занял два дня. Я описал все, что лежало на полке, и какая она была пыльная, объяснил, что пришлось ее подвинуть, а под ней оказалась лужа, и я решил вытереть пол. Тряпку я ходил отжимать во двор – ведь если выжать на пол, опять натечет лужа. Они говорят: а ведро взять не догадался? Да, отвечаю, потом я понял, что так удобнее. Хорошо, что сообразил, – больше не пришлось во двор бегать.
Так прошло два дня. Еще два я расшифровывал какие-то кляксы. Надо было говорить, на что они похожи. Обычные тесты, которыми пользуются психиатры.
Я все повторял, что мне ничего не хочется. Ничего не хочу делать, ничего не жду от жизни – ни хорошего, ни плохого. Вообще ничего. Иногда, говорю, читаю. Врачи попросили рассказать что. Я стал им пересказывать “В пустыне и пуще”. Страницу за страницей. Это заняло не один час. Их интересовали мои соображения, например[6] – почему я считаю, что из финала следует, что герой соединился с героиней, и так далее и тому подобное.
Спустя десять дней мне вручили заклеенный конверт и отпустили. Дома я его вскрыл и прочитал диагноз: schizophrenia duplex. Снова заклеил и отвез в военкомат. В военном билете мне поставили штамп “Категория Д” – негоден к службе даже в военное время.
Ровно через четыре дня начинались экзамены в Киношколу – и на этот раз я успешно их сдал. Это было довольно рискованное предприятие, ведь, с одной стороны, я изображал в военкомате, что ничего не хочу, а с другой – чтобы поступить в Киношколу, требовалось хотеть.
Попасть в Лодзинскую киношколу было трудно. Я раз провалился, второй. Если не поступаешь, нужно год ждать, чтобы попробовать снова. Честно говоря, мною уже двигало одно самолюбие – хотелось доказать, что все-таки смогу. А высокой цели больше не было, потому что к тому времени я разлюбил театр. Его расцвет закончился году в шестьдесят втором, и таких прекрасных спектаклей больше не появлялось. Что-то переменилось – не знаю что. Видимо, всплеск свободы, ожививший театр после 1956 года, к началу шестидесятых почти сошел на нет. И я уже не очень-то хотел быть театральным режиссером. Да и вообще режиссером. Но хотел настоять на своем: не принимаете меня – а я назло возьму и поступлю. Чистое самолюбие, больше ничего. Я его удовлетворил и был счастлив. А вообще-то, конечно, зря меня взяли, такого идиота. До сих пор не понимаю почему. Может, потому, что это была уже третья попытка.
На предварительный конкурс полагалось представить какие-нибудь творческие работы. Любительский фильм, сценарий, фотографии. Можно прозу. Или картины, если умеешь рисовать. Что угодно. Я принес какие-то дурацкие рассказы. Паршивые. Когда поступал в первый или во второй раз – показал фильм на восьмимиллиметровой пленке. Жуткий – какую-то претенциозную чепуху. Я с такими работами ни за что бы не принял. Впрочем, меня и не приняли. Тогда я написал рассказы. Может, в тот раз и поступил? Уже не помню.
Экзамены в Киношколу тянутся очень долго. Сегодня тоже. Целых две недели. Все три раза я проходил на последний тур. Конкурс был огромный – около ста претендентов на пять или шесть мест. До последнего испытания добиралось человек тридцать-сорок. И я в том числе, причем без особых усилий. Но дальше – ни в какую.
Я был начитан. Хорошо знал историю искусств – нам читали отличный курс в театральном Лицее. Неплохо разбирался в истории кино. И так далее. Но, честно говоря, несмотря на свои двадцать с лишним, я был весьма наивен. Наивен и чудовищно неразвит. Во всяком случае, до сих пор помню, что2 ответил на последнем собеседовании, от которого зависело, примут или нет. К этому моменту среди поступающих всегда бывало два-три человека, которых собирались взять наверняка, и я, судя по всему, оказался одним из них. Меня спросили, какие средства массовой коммуникации я знаю. Я говорю: троллейбус, автобус. На полном серьезе. А экзаменаторы, видно, решили, что это такая тонкая ирония – мол, вопрос недостойный. Вероятно, поэтому меня и приняли. А я действительно считал, что средство массовой коммуникации – троллейбус.
На экзаменах могли спросить о чем угодно. Например, как работает сливной бачок. Или как действует электричество. Или помните ли вы первый кадр такого-то фильма Орсона Уэллса. Чем кончается “Преступление и наказание” – какими именно словами. Самые неожиданные вопросы. Зачем поливают цветы. И так далее. Хотели выяснить интеллектуальный уровень абитуриента, способность к ассоциативному мышлению. А главное – умеет ли человек хорошо рассказывать. Нетрудно снять на пленку, как работает сливной бачок. Но попробуй это описать. Любым способом, пожалуйста, – хоть на пальцах – сумей объяснить, почему набирается вода, как работает спуск, почему после слива бачок снова заполняется строго определенным объемом воды и так далее… С помощью таких вопросов, в частности, стремились оценить талант рассказчика, способность сосредотачиваться, широту ассоциаций и интеллект.
Лодзинская киношкола похожа на все киношколы мира. Студентам преподают историю кино, всеобщую историю, эстетику, операторское мастерство, работу с актером и многое другое. Шаг за шагом. Но на самом деле мало чему можно научиться – разве что будешь знать историю. В этой профессии путь один – практика.
Школа должна дать студенту возможность смотреть и обсуждать фильмы. Это, в сущности, единственная ее задача. Больше ничего. Надо смотреть кино. Все время смотреть и все время говорить о нем. Неважно, на занятиях по истории кинематографа или по эстетике или по английскому языку. Не имеет значения. Главное, чтобы кино было главной темой, чтобы разговор о нем шел постоянно, чтобы фильмы анализировались, сопоставлялись и так далее.
Наша Школа была устроена замечательно. Нам давали возможность снимать. Как минимум по фильму в год. А при некоторой смекалке или везении – даже по два. Мне, например, удавалось. Так что Школа позволяла, во‐первых, окунуться в мир кино и немного там покрутиться, а во‐вторых, делать кино самим. То есть реализовать на практике результаты всех этих разговоров, дискуссий, сопоставлений.
Полагалось снимать и художественные, и документальные фильмы. И я занимался и тем, и другим. На третьем, кажется, курсе снял двадцатиминутный игровой. Иногда мы экранизировали рассказы. Фильм должен был быть коротким. О романах никто не помышлял. Но чаще всего писали сценарий самостоятельно.
Особой цензуры в Школе не было. Нам показывали картины, которые не шли в обычном прокате. Привозили их в сугубо учебных целях, а вовсе не для того, чтобы удовлетворить наш интерес к иностранной жизни и запретным политическим темам. Конечно, до Бонда, воюющего с КГБ, дело не доходило. Но мы смотрели картины, которых никто больше в стране не видел, или гораздо раньше, чем они выходили в прокат. Не думаю, что при отборе была политическая цензура. Хотя, может, и была. Может, я просто об этом не знал. Показывали “Потемкина” Эйзенштейна. Другие хорошие российские фильмы, по тем или иным причинам представлявшие интерес. Но специальной коммунистической пропаганды в Школе не было. Эта открытость, в частности, была ее достоинством – до 1968 года.
Были фильмы, которые запомнились мне навсегда – просто потому, что они прекрасны. Были фильмы, посмотрев которые я сразу понял: ничего подобного мне никогда не сделать, – они, наверное, произвели на меня самое сильное впечатление. Не сделать не из-за отсутствия денег, средств или технических возможностей, а из-за недостатка воображения, ума, таланта. Я всегда говорил, что не хочу быть ассистентом. Но если бы меня пригласил Кен Лоуч, я бы с удовольствием подавал ему кофе. Я посмотрел в Киношколе “Кес” и сразу понял, что хотел бы подавать этому человеку кофе. Готовил бы ему кофе, чтобы понять, как он делает то, что делает. То же могу сказать и об Орсонe Уэллсe, Феллини или Бергмане.
Когда-то были великие режиссеры, которых сегодня больше нет. Эпоха великих личностей в кинематографе закончилась. То, что я испытывал, глядя их фильмы, не было завистью. Завидовать можно тому, что в состоянии достичь хотя бы теоретически. Нельзя завидовать тому, что абсолютно недостижимо. В моих тогдашних чувствах не было ничего постыдного. Наоборот, думаю. Только восхищение, изумление перед тем, что подобное возможно, и уверенность, что я так никогда не смогу.
Не так давно – кажется, в Голландии – меня попросили составить программу из своих любимых фильмов. Я составил. Сейчас уже не помню точно, что отобрал. На два показа даже сходил сам. И обнаружил, что мои ожидания не сбылись, и образ фильма, который жил в моей памяти, оказался совершенно развенчан.
Впрочем, пересмотрев “Дорогу” Феллини, я не был разочарован. Она понравилась мне, как когда-то, а может, и больше. Но потом пошел на “Вечер шутов” Бергмана. У меня сохранились прекрасные воспоминания – но то, что я видел на экране теперь, оказалось мне совершенно неинтересно и абсолютно чуждо. Я не мог понять, что находил в этом когда-то – за исключением трех или четырех сцен. Не почувствовал того напряжения, с которым смотрел “Вечер шутов” прежде. Впрочем, позже Бергман снял прекрасные картины, которые волнуют до сих пор. Именно в этом, среди прочего, заключается магия кино: в том, что мы, зрители, сидя в зале, внезапно ощущаем особенное напряжение между собой и экраном. Переносимся в мир, который нам показывают. Мир настолько живой, цельный и убедительный, что мы просто оказываемся в нем.
Оба фильма, Феллини и Бергмана, сняты примерно в одно время. Оба сделаны великими режиссерами. Но “Дорога”, в отличие от “Вечера шутов”, не стареет. Кто знает почему. Конечно, можно попытаться проанализировать. И наверное, даже понять. Но не знаю, стоит ли. Такие рамышления – дело критиков.
Тарковский был величайшим из режиссеров последнего времени. Его, как и многих других, нет в живых. Одни великие умерли, другие перестали снимать. Третьи безвозвратно утратили что-то главное: воображение, оригинальность мышления, блеск повествования. Тарковский, несомненно, был из тех, кто сумел все это сохранить. Но он умер – видимо, просто потому, что не мог жить дальше. Это обычно и есть настоящая причина смерти. Мы говорим “инфаркт”, “рак”, “попал под машину” – но на самом деле человек чаще всего умирает потому, что больше не может жить.
Мне часто задают вопрос, кто из режиссеров оказал на меня наибольшее влияние. И я совершенно не знаю, что ответить. Слишком многие и по таким разным причинам, что невозможно усмотреть какую-то логику. Журналистам я всегда называю имена Шекспира, Достоевского, Кафки. Они удивляются – разве это режиссеры? Нет, конечно, – писатели. Но литература для меня куда важнее кино.
Разумеется, я пересмотрел массу фильмов, особенно в Киношколе, и многие полюбил. Не знаю, можно ли считать это влиянием. Думаю, до сих пор, за редкими исключениями, я смотрю фильмы скорее как зритель, чем как режиссер. А это два совершенно разных взгляда. Конечно, если спрашивают моего совета или мнения, я стараюсь смотреть глазами профессионала и анализировать. Но если уж просто иду в кино – что, правда, случается очень редко, – то предпочитаю быть именно зрителем. Я хочу, чтобы картина меня взволновала, хочу поддаться ее волшебству – если оно там есть, – поверить в рассказанную историю. В этом случае уже трудно рассуждать о влиянии.
Хороший фильм, фильм, который мне нравится, я по ходу действия анализирую гораздо меньше, чем тот, который не нравится. Из этого, конечно, не следует, что на мою работу повлияли плохие фильмы. Думаю, все-таки хорошие. Но их я стараюсь не анализировать. В Школе я сто раз посмотрел “Гражданина Кейна”. При желании могу сесть и нарисовать или описать отдельные его кадры, но для меня не это главное. Думаю, я могу это сделать потому, что я в этом фильме участвовал. Пережил его.
Так что не вижу ничего страшного в “воровстве”. Если кто-то шел до тебя и нашел правильный путь – его открытие следует немедленно украсть. Если то, что я украду из хорошего фильма, способно стать органичной частью моего собственного кино – я так и делаю. Часто совершенно бессознательно. Что вовсе не отменяет самого факта, и я не могу сказать, что никогда такого не случалось. Случалось – но ненарочно, не обдуманно. Это же не просто подражание. Ведь кино, если серьезно, – часть нашей жизни. Мы встаем утром, идем на работу или остаемся дома. Ложимся спать. Любим. Ненавидим. Ходим в кино. Разговариваем с друзьями и близкими. Переживаем за наших детей и за приятелей наших детей. И фильмы, которые мы смотрим, – тоже часть жизни. Они остаются в нас. И, оставаясь в нас, делаются частью нашего мира, нашей души. Они так же остаются в нас, как события, случившиеся на самом деле. Думаю, фильмы ничем не отличаются от действительных событий – кроме того, что придуманы. Но это не имеет никакого значения. Они остаются в нас и становятся нашими. Вероятно, я так же ворую кадры, эпизоды, какие-то художественные решения, как присваиваю истории – и уже сам не помню, где украл.
Я всегда призываю молодых коллег, которые учатся писать сценарии или заниматься режиссурой, попытаться пристально и беспристрастно взглянуть на собственную жизнь. Не затем, чтобы написать книгу или сценарий, – ради самих себя. Попытаться понять, что в их жизни произошло важного, почему сегодня они оказались здесь, в этом месте, на этом стуле, среди этих людей. Как это вышло? Что на самом деле привело их сюда? Понять это необходимо. С этого все начинается.
Годы труда без такой рефлексии окажутся бесплодными. К чему-то можно прийти интуитивно, сердцем, но результаты всегда будут случайными. Только подобная работа над собой позволяет увидеть события в связи причин и следствий.
Я тоже пытался понять, что привело меня куда привело, и думаю, без такого анализа – честного, глубокого, безжалостного – невозможно рассказывать истории. Потому что, не разобравшись в собственной жизни, нельзя понять героя, о котором хочешь рассказать, нельзя понять жизнь другого человека. Это хорошо известно философам. И социальным работникам. Но это следует понимать и художнику – во всяком случае, рассказчику. Может, музыканту подобный анализ ни к чему – впрочем, композитору, думаю, он необходим. Живописцу, возможно, меньше. Но людям, рассказывающим истории о чужой жизни, не обойтись без настоящего понимания собственной; настоящего – значит не публичного, а такого, каким не делятся с посторонними. Оно не на продажу – и из моих фильмов зритель никогда об этом не узнает. Хотя некоторые вещи проследить, конечно, несложно. Но понять, насколько мои фильмы или истории мне близки и почему, нельзя. Сам я знаю. Но только я.
Я остерегаюсь людей, желающих учить или указывать цель – мне или кому-нибудь другому. Не верю, что цель можно указать, – каждый должен найти ее для себя сам. Подобных людей я боюсь панически. Поэтому сторонюсь психоаналитиков, психотерапевтов. Они, правда, всегда говорят: мы не даем никаких советов, просто помогаем найти свой путь. Их доводы мне хорошо известны. Но это, к сожалению, лишь теория, а на практике они именно указывают. Знаю много людей, которые после сеанса чувствуют себя превосходно. Но знаю и таких, кому потом очень плохо. Думаю, впрочем, что и тот, кто сегодня вышел окрыленным, наутро почувствует себя уже не так хорошо.
Я очень старомоден в подобных вопросах. Знаю, что всякая групповая и индивидуальная терапия вошла в моду, что много людей этим занимается, но меня это только пугает. Я панически боюсь этих людей, как боюсь политиков, священников, учителей – всех, кто дает указания, кто якобы знает. Я глубоко убежден, что на самом деле не знает никто. Но обязательно находятся те, кто считает, что знает. Их деятельность, увы, чаще всего приводит к трагедии, вроде Второй мировой войны, сталинизма и т. д. Я убежден, что Сталин и Гитлер именно знали. Они знали наверняка. Эта уверенность в причастности к абсолютной истине порождает фанатизм. И вот уже грохочут сапоги. Всегда этим кончается. Конечно, я упрощаю. Бывают и прекрасные исключения, они всем нам известны.
Я учился в хорошей киношколе. В шестьдесят восьмом году, когда я ее окончил, там сохранялся дух свободы, работали серьезные учителя. Но потом коммунисты Школу уничтожили. Сначала выгнали преподавателей-евреев. Затем шаг за шагом отобрали всякую свободу. И Школы не стало.
Цензуру, конечно, пытались прикрыть красивыми словами. Например, одно время в Школу охотно принимали юных экспериментаторов, которые вырезали в пленке дырочки или устанавливали камеру где-нибудь в углу и часами снимали все, что попадает в кадр, выцарапывали на эмульсии рисунки и т. д. и т. п. Тогдашняя власть к ним благоволила. Тоталитаризм всегда поддерживает подобные движения с тем, чтобы уничтожить другие. В данном случае – то, которое представляли мы, выпускники прежней Школы, стремившиеся понять, что происходит вокруг. Как люди живут, почему они так живут. Не так хорошо, как могли бы. Не так, как пишут в газетах. Вот о чем были наши фильмы.
Школу можно было просто закрыть, но властям это было невыгодно: пошли бы разговоры, что государство душит свободу творчества. Они поступили тоньше: стали поддерживать студентов, которые заявляли, что хотят заниматься чистым искусством. “Нет смысла снимать кино про настоящих людей и про их жизнь. Мы художники, мы должны творить искусство. Преимущественно – новое, экспериментальное”.
Помню, в 1981 году мы с Агнешкой Холланд приехали в Школу. Руководил ею наш бывший коллега, который отчаянно хотел стать ректором и дни напролет вырезал кружочки в магнитной ленте. На темном экране время от времени мелькали белые пятна – то с одной стороны, то с другой, иногда дырочка поменьше, иногда побольше. Под музыку. Я не сторонник такого кино и не скрываю, что меня оно раздражает. Но дело не в этом. Раз есть энтузиасты, которым хочется вырезать дырочки, – почему бы не вырезать. Я не против, если только с помощью этих дырочек не уничтожают что-то другое.
Я тогда занимал пост заместителя председателя Союза кинематографистов. Наш визит в Школу был одним из многочисленных мероприятий Союза, которые закончились одинаково плачевно. Мы с Агнешкой пытались что-то объяснить студентам. Например, что Киношкола существует ради того, чтобы дать им возможность снять несколько фильмов, что-то узнать о том, где ставить камеру, как работать с актером, о том, какие фильмы есть на свете. Чтобы, грубо говоря, объяснить, что такое драматургия, структура сценария, чем отличается сцена от эпизода, в чем разница между короткофокусным объективом и длиннофокусным. Но студенты нас освистали. Заявили, что здесь не какое-нибудь профтехучилище. Что они хотят изучать восточную философию, йогу и разные техники медитации. Потому что без йоги и медитации невозможно правильно вырезать в пленке дырочки, приверженцами которых они являются.
Нас просто выгнали. Я тогда не в первый раз понял, как мало наш Союз кинематографистов может сделать. Впрочем, возможно, я был не прав. Но мне кажется, что Школа существует, чтобы научить именно тому, о чем я говорил. Студенты думали иначе. Может, поэтому в Польше сегодня такое кино.
В шестьдесят восьмом интеллигенция устроила микрореволюцию, которую никто не поддержал. Мы считали, что газеты все врут, что нельзя выгонять евреев из страны, что будет лучше, если к власти придут люди с более открытым и демократическим мышлением, чем Гомулка с командой. Позже оказалось, нами манипулировали рвавшиеся к власти политиканы. Гораздо более жестокие и циничные, чем сам Гомулка. Нас (молодежь, студентов) использовала группа Мочара.[7]
Дважды я пробовал заняться политикой, и оба раза сильно об этом пожалел. Сначала – в 1968 году. Какое-то время входил в студенческий забастовочный комитет в Лодзи. Ничего особенного: швырял камни и убегал от милиции. И все. Потом меня допрашивали – раз пять, а может, десять. Я ничего не рассказал и не подписал. Меня не били, не угрожали. Ни разу я не почувствовал, что меня хотят арестовать. Гораздо страшнее было то, что людей буквально выталкивали из Польши. Антисемитизм и польский национализм – позорное пятно на совести моей страны, которое не удалось вывести по сей день, и сомневаюсь, что когда-нибудь удастся.
Только теперь я понял, как хорошо, когда страна многонациональна. Только теперь. Тогда не понимал. Но и тогда чувствовал, что творится какая-то чудовищная несправедливость, а я ничего не могу поделать, никто не может, и парадоксальным образом – чем громче я буду кричать и чем яростнее бросать камни, тем больше людей вышвырнут из страны.
Потом какое-то время мне удавалось держаться от политики в стороне. Но, став заместителем Вайды в [8]руководстве Союза кинематографистов, в тот момент – авторитетной организации, я соприкоснулся с политикой вновь. Фактически я был председателем Союза. С 1976 или 1977-го по восьмидесятый. И снова очень быстро понял, какая опасная ловушка чиновничье кресло. Это была, конечно, маленькая политика, в маленьком масштабе. Но тоже политика. Мы пытались добиться для кинематографистов творческой свободы – отмены или смягчения цензуры. Из этого ничего не вышло. Почти ничего. Нам казалось, мы играем существенную роль. Оказалось – вообще никакой.
Меня не покидало острое чувство, что я занимаюсь не своим делом. Компромиссы, на которые приходилось идти, были для меня мучительны, потому что это были не мои личные компромиссы, а уступки от имени большого числа людей. Глубоко безнравственная деятельность. Ведь даже если удается сделать что-то хорошее и полезное, за это всегда приходится платить. Сам расплачиваешься стрессом – но настоящую цену платят другие люди. Иного пути нет. И я понял, что это не для меня.
На компромиссы приходится идти постоянно. В личной жизни, в профессиональной, на компромиссы художественные. Но за них расплачиваюсь только я сам. Иными словами, мне не хочется нести ответственность за других. Это я понял наверняка, притом что совершенно погряз в делах Союза. Когда начались времена “Солидарности”, я подал в отставку – я не создан для революционных эпох.
Возвращаясь к Киношколе. Когда я туда поступил, ее как раз окончил Ежи Сколимовский. На следующий год – Кшиштоф Занусси, Эдек Жебровский, Антек Краузе. Наш курс был очень дружным, нам было хорошо вместе. Особенно мы сблизились с Анджеем Титковым. Очень дружили с Томеком Зыгадло. Еще учились Кшись Войцеховский и Петр Войцеховский, он уже тогда был – и до сих пор остается – хорошим писателем. Было несколько иностранцев, как полагается. Прекрасный выпуск – мы очень друг друга любили.
Анджей Титков когда-то написал пьесу “Атаракс” – это название транквилизатора. На втором или третьем курсе я поставил ее на телевидении в качестве курсовой. Возможность практиковаться была огромным достоинством Школы. Причем практиковаться в хороших по тем временам условиях – с профессиональными операторами, звуковиками и осветителями.
За пределами Школы оказалось, что вкусы и интересы у нас у всех разные. Я бросился в документалистику, потому что мне это очень нравилось, хотелось снимать документальное кино, и я потом занимался им много лет. Ребята разбрелись кто куда. Позже некоторые тоже пришли в документалистику, что в конце шестидесятых было непросто. Даже не понимаю, как это мне сразу удалось. Помог Карабаш – один из любимых моих учителей, оказавший на меня в юности большое влияние.
У меня было прозвище Инженер. Может, потому что отец был инженером, но, скорее всего, из-за моей привычки, даже мании, наводить вокруг себя порядок. Я все время что-то записывал на листочках и постоянно пытался их рассортировать. А еще называли “Орни” – “орнитологом”. Это, вероятно, за долготерпение, которое я проявлял, снимая документальные фильмы.
В те времена я был очень терпелив, потому что работа документалиста того требует, но теперь совершенно утратил всякое терпение. Дело в возрасте. Когда только начинаешь, кажется – впереди полно времени, можно и подождать. Но с годами все сильнее чувство, что времени остается меньше и меньше – и уже не хочется тратить его лишь бы на что.
Потом я стал снимать игровое кино. Оказался среди режиссеров, делавших фильмы, которые позже назвали “кинематограф морального беспокойства”. Название придумал Януш Кийовский, наш коллега. Очевидно, оно должно было означать, что мы обеспокоены нравственным обликом современной Польши. Трудно сказать, что он хотел этим сказать. Я это название терпеть не мог, но оно прижилось.
Здесь возникли отношения, завязались дружбы совсем иного рода, чем были прежде, совсем с другими людьми. Я подружился с Занусси, с Лозиньским. Потом с Эдеком Жебровским, с Агнешкой Холланд, одно время дружил с Анджеем Вайдой. Нам казалось, вместе мы способны что-то сделать, вместе мы – сила. Так и было. Мы оказались востребованы. “Кинематограф морального беспокойства” просуществовал лет пять или шесть – примерно до восьмидесятого года.
Но это было позже. Вскоре после окончания Школы, где-то в начале семидесятых, мы задумали сколотить небольшую команду, чтобы поддерживать друг друга. Нам хотелось создать студию, которая объединила бы молодых и стала связующим звеном между Школой и профессиональным кинематографом. Точкой старта на пути к большому кино. Главная беда, считали мы, что выпускнику Школы страшно трудно начать работать – из-за того, как организована система кинематографии. Лет через пять ситуация изменилась к лучшему, но тогда приходилось что-то придумывать. И мы придумали.
Идея пришла из Венгрии, где такая студия существовала – называлась “Студия Белы Балаша”. Бела Балаш – венгерский теоретик кино, умнейший человек. Он работал до войны и, кажется, после войны тоже. Наша студия в Польше должна была называться “Студия Ижиковского”. Ижиковский был очень близок Балашу[9] – серьезный, глубокий исследователь, теоретик кино. Замысел состоял в том, чтобы снимать недорогие фильмы. Мы выдвинули лозунг: “дебют за миллион”. Средняя смета фильма обычно составляла шесть миллионов злотых. Мы же брались сделать первый фильм за один миллион.
В первую очередь речь шла об игровом кино. Но кроме того, мы думали, что можно работать для всех видов проката. Снимать документальные короткометражки, которые в те времена показывали в кинотеатрах перед игровым фильмом на так называемых удлиненных киносеансах. Делать документальные картины для телевидения. В общем, надеялись найти финансирование где только можно. Притом что единственным источником денег была государственная казна. Требовалось только убедить чиновников, отвечавших за культурную политику. Честно говоря, нам это не удалось. Никого мы не убедили. Только потратили несколько лет.
Я не был главным в этой затее. В команду входили еще Гжесь Круликевич (думаю, самый энергичный из нас), Анджей Юрга, Кшись Войцеховский. И директор. Требовались профессионалы – продюсер, бухгалтер, которые будут заниматься бюджетом фильмов и самой студии. И мы искали их. А кроме того – писали манифесты. Нам удалось заручиться поддержкой важных в кинематографе людей: Якуба Моргенштерна, Анджея Вайды, Занусси и даже Кавалеровича – в то время председателя Союза кинематографистов. Добиться такой поддержки вчерашним выпускникам Школы было не просто. Мы собрали подписи всех этих людей под обращениями, в которых говорилось, что такая студия необходима, что это пойдет на пользу кинематографу. Но все в конце концов разбивалось о чье-то равнодушие, не знаю чье – может, министерства культуры. Хотя вряд ли, оно такими вопросами не занималось. Это наверняка было в компетенции отдела культуры ЦК. Думаю, нам просто не слишком доверяли. Юнцы, никому не известные. Все до одного беспартийные.
Чтобы придать себе вес, мы пригласили художественным руководителем студии Богдана Косиньского, хорошего документалиста. Позже он стал одним из самых крупных и известных диссидентов. Но в то время еще был секретарем партийной организации СДФ (Студии документальных фильмов). Мы считали, такая партийная поддержка будет для нас полезной. Оказалось, однако, что Богдан Косиньский, даже будучи партийным чиновником, в глазах власти недостаточно лоялен. Такая репутация сложилась у него после шестьдесят восьмого года, то есть, во‐первых, после антисемитского скандала в Польше, а во‐вторых – после введения в Чехословакию войск Варшавского договора. Думаю, в то время тщательно просвечивали и проверяли всех и каждого. И все мы были так или иначе не без греха. Видимо, Богдан уже тогда высказывался по поводу, например, введения войск в Чехословакию. И даже если не выступал открыто, то, скорее всего, вел себя на партсъезде столь недвусмысленно, что ему перестали доверять.
В результате через несколько лет наша затея завершилась полным провалом, и студия появилась только в 1980-м, уже во времена “Солидарности”. Ее организовали молодые люди во главе с Янушем Кийовским, и она работает до сих пор. Как у них идут дела – не знаю. Мы хотели создать студию для себя, для выпускников нашего поколения. Потом оказалось, такая студия нужна и следующему поколению. А нам уже нет. Мы уже работали в кино. Но я какое-то время интересовался этой новой студией, потому что у меня появились студенты – в Киношколе в Катовицах, которая открылась году в семьдесят седьмом, и я преподавал там года три или четыре вместе с Кшиштофом Занусси, Эдеком Жебровским и Анджеем Юргой. Студенты, окончившие ее в начале восьмидесятых, были нашими выпускниками. Нашими молодыми коллегами. Поэтому для меня имело значение, как идут дела у новой студии.
Вечная история – люди движимы прекрасными идеями, пытаются сделать что-то вместе, реализовать себя. А потом получают деньги, немного власти – и забывают про идеалы. Начинают снимать свое кино, не пуская чужих. Именно этим, само собой, закончилась и Студия Ижиковского. Вечные свары. Постоянная смена администрации. Честно говоря, я не очень верю в будущее этой студии.
3
Западные польские земли, возвращенные Польше по итогам Второй мировой войны.
4
Воспоминания Кесьлёвского не вполне точны. Стшемешице-Вельке – а речь явно идет о них – до войны действительно находились на границе, но в Домбровском бассейне, а не в Верхней Силезии. Следовательно, их жители не говорили на силезском диалекте. Теперь Стшемешице – часть Домбровы-Гурничей. (Прим. Д. Сток.)
5
Район Варшавы.
6
Приключенческий роман Г. Сенкевича для детей и подростков.
7
Мечислав Мочар (1913–1986) – в 1964–1968 годах министр внутренних дел Польши, в начале 70-х – член Политбюро и секретарь ЦК ПОРП. В борьбе за власть в партии и государстве использовал националистические и антисемитские лозунги.
8
Анджей Вайда (1926–2016) – режиссер кино и театра, автор классических фильмов “Пепел и алмаз”, “Все на продажу”, “Человек из мрамора” и др.
9
Кароль Ижиковский (1873–1944) – польский писатель, критик, теоретик кино.