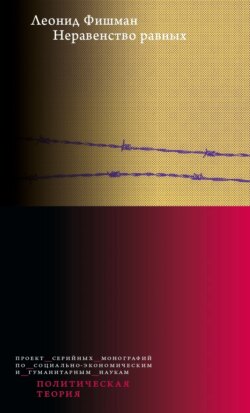Читать книгу Неравенство равных. Концепция и феномен ресентимента - Л. Г. Фишман - Страница 3
Глава 2 Ресентимент как умонастроение аристократии
ОглавлениеСколь бы самоочевидной в силу подкупающей простоты ни казалась связь между ресентиментом и низшими классами, сам комплекс характерных для него моральных чувств и стратегий поведения вряд ли мог появиться среди низших классов. Гораздо резонней предположить, что для его появления как значимого социального феномена было необходимо не уникальное сочетание черт личности у раба или крестьянина, одержимого, подобно старухе из сказки о золотой рыбке, неправомерной гордыней, а положение в социальной структуре, которое бы генерировало «высокие, сдерживаемые втуне притязания, гордыню, не соответствующую внешнему статусу»[42]. Еще Аристотель указывал на то, что завидуют друг другу люди близкого социального положения: «…тем, кто к ним близок по времени, по месту, по возрасту и по славе… тем, с кем соперничают, потому что соперничают с перечисленными категориями лиц… Одинаковым образом [мы относимся] и к людям, занимающимся подобными вещами. <…> Завидуем мы и тем, чьи приобретения или успехи являются для нас упреком; ведь такие люди нам близки и подобны нам… и тем, кто имеет или приобрел то, чем следовало бы обладать нам или чем мы обладали… И те, кто еще не достиг или совсем не достиг чего-нибудь, завидуют тем, кто быстро [достиг этого же самого]»[43]. Иными словами, социально обусловленная зависть, которая, как считается, лежит в основании ресентимента, возникает и поддерживается вовсе не тогда, когда расстояние между завистником и объектом зависти велико, а, наоборот, когда оно минимально[44]. А если и не минимально, то видится вполне преодолимым легальным путем.
Сегодня с ресентиментом обычно связывают популизм – по определению представительство низших классов. Но, как проницательно писал Ричард Сеннет еще по поводу Ричарда Никсона, «его симпатии – не приверженность новому порядку, но скорее чистое негодование, ressentiment по отношению к порядку существующему. В глубине души его политика – это политика пренебрежения к знати, критикующая недоступность привилегированных школ; класс, к которому он апеллирует, ненавидит привилегированных, но не собирается упразднять сами привилегии. Критикуя истеблишмент, представители этого класса (курсив наш. – Л. Ф.) надеются пробить в его стенах брешь, через которую они сами смогли бы по одному пробраться по ту сторону»[45]. Что же это за класс? Точно не пролетариат, по крайней мере американский. Как настойчиво подчеркивает Пол Фассел, пролетарии совсем не завидуют самым высшим классам; напротив, все оттенки зависти низших к высшим легко обнаруживаются между различными градациями среднего класса[46].
Поэтому картина, согласно которой рабы и маргиналы совершают колоссальную духовную работу по переоценке ценностей, в результате чего чувства бессилия и отчаяния, желание мести и осознание того, что она не может реализоваться в адекватных поступках, подвергаются колоссальной культурной переработке, и в итоге бессилие трансформируется в силу, поражение – в победу, а «ressentiment сам становится творческим и порождает ценности»[47], выглядит малоубедительной. Не стоит забывать, что революционеры, которые формулируют и воплощают на практике «ресентиментные» теории, обычно происходят из не самых обездоленных слоев, а часто все из тех же аристократов[48] или буржуа. То же касается и феноменов, в которых типичным для ресентимента образом тесно переплетаются политика и искусство. Так, «школа ресентимента»[49] в Америке возникла не тогда, когда негры были рабами, а женщины домохозяйками, а тогда, когда многие из них стали университетскими профессорами и развернули идеологизированные этнические, гендерные и «квирные» штудии. И поскольку речь зашла о политиках идентичности, с которыми нередко связывается современный ресентимент, стоит особо заметить, что он выражается в категориях достоинства[50], защиты оскорбленных чувств, компенсации за прежние несправедливости в форме привилегий[51]. Все это вызывает ассоциации с этосом некоего привилегированного, квазиаристократического социального слоя, который если и не страдает сам, то озвучивает чаяния страдающих на своем языке.
Иными словами, генезис ресентимента следует искать в высших классах или близких к ним социальных группах. Но, конечно, нельзя отрицать, что в дальнейшем свойственный ресентименту комплекс моральных чувств и поведенческих стратегий может быть перенят другими классами. В этом виде он обращает на себя внимание в эпохи, когда угнетенные классы приобретают реальные возможности для изменения своего положения или, во всяком случае, получают основания считать, что могли бы достичь большего, если бы такая возможность им была предоставлена.
Правдоподобные представления о генезисе ресентимента в более ранние эпохи (то есть, если следовать Ницше, в эпоху Античности и в Средние века) можно получить путем выявления таких социальных групп (и типичных для них «человеческих ситуаций»), статус которых хотя бы в некоторых существенных отношениях близок к статусу высших классов, а «слабость» и «униженность» лишь относительны и оставляют надежду на изменения к лучшему. Здесь мы попытаемся описать некоторые из ситуаций, сыгравших, по нашему мнению, ключевую роль в генезисе ресентимента в европейской культуре. Как бы парадоксально это ни выглядело с точки зрения мыслителей, введших понятие ресентимента, эти ситуации связаны с максимальной близостью к феодальной аристократии, то есть к той социальной группе, с которой Ницше и Шелер связывали прямую противоположность ресентименту.
Речь идет о двух типических ситуациях, имеющих непосредственное отношение к наследованию социального статуса – младшего сына и бастарда.
Долгое время действовавшая в Западной Европе система майората дискриминировала младших наследников, которым приходилось делать карьеру по церковной линии, в свободных профессиях, заниматься наемничеством или даже торговлей. Чем строже соблюдался этот принцип, тем сильнее в глазах младших представителей рода проявлялась его несправедливость. К периоду изживания феодальных порядков в Европе комплекс переживаний обделенных наследников породил настроения, выразившиеся, в частности, в словах Монтескье: «Дух тщеславия установил у европейцев несправедливое право старшинства, столь неблагоприятное для продолжения рода, ибо оно побуждает отца все внимание уделять только одному ребенку и отвлекает его от других, вынуждает его противиться благосостоянию нескольких детей, чтобы обеспечить благосостояние старшего, разрушает, наконец, гражданское равенство, на котором зиждется процветание общества»[52]. Заметим, что этот пассаж, начинающийся с вполне ресентиментного отторжения «духа тщеславия» (своего рода «блестящего порока», свойственного аристократии и осуждаемого с позиции младших детей из все той же аристократии), заканчивается отсылкой к принципу гражданского равенства. Эта могущественная идеологическая доктрина третьего сословия в Великую французскую революцию оказалась созвучна настроениям многих представителей дворянства – может быть, потому, что она вытекала и из их собственной «человеческой ситуации». В связи с этим хочется заметить, что комплекс связанных с майоратом ресентиментных переживаний и революционных устремлений разворачивался в накатанной тысячелетиями культурной колее. Как замечал Елеазар Мелетинский, осуждение майората в пользу более архаичного, но и более социально справедливого минората (наследования младшим сыном) прослеживается еще в Ветхом Завете: «…одобряемое автором перехватывание благословения Авраама младшим сыном Иаковом в ущерб Исаву и покупка первым первородства у второго; предпочтение, которое Иаков отдает младшему сыну Иосифу и младшему внуку Ефрему; воцарение Давида, младшего сына, которому завидуют старшие братья, и т. п.»[53]. Особенно в европейской сказке старшие братья часто оказываются активными соперниками несправедливо обделенного героя. «Старшие братья часто пытаются приписать себе подвиги младшего, отнять его награду. Так же и мачеха пытается подменить падчерицу своими дочерьми. <…> Старшие братья в сказке могут убить младшего или сбросить его в нижний мир (откуда его затем выносит птица), либо просто отнять у него царевен, чудесные предметы и т. п., либо приписать себе убийство дракона, показывая его отрубленную голову. Так же и мачеха может подменить падчерицу в качестве невесты или жены принца своей дочерью, а падчерицу изгнать или заколдовать. Героя, обручившегося в дальних странствиях с некой чудесной красавицей, могут заставить ее забыть и подсунуть ему другую невесту. Подмена совершается с помощью коварства, хитрости, обмана и колдовства»[54]. Однако униженный, оскорбленный и обделенный младший брат оказывается в действительности умнее, хитрее, способнее и, нередко, благороднее старших родственников, за счет чего торжествует над ними. И когда чувствовавшие себя обделенными младшие братья приходили забрать свое во время великих буржуазных революций, они всего лишь проделывали на практике то, что столетиями ранее осуществляли только в сказках. Сказки эти, конечно, пронизаны ресентиментом, но некоторые из них до сих пор находятся в основании европейской культуры и играют важную роль в ее социальной и идеологической динамике.
Отдельно следует отметить то, что майорат как повод для проявления зависти, соперничества, ненависти, бессилия, желания мести и прочих характерных для ресентимента чувств породил целую литературу, изобилующую характерными примерами. Так, один из героев Гофмана, пытаясь, будучи наследником майората, помочь брату, наталкивается на отповедь: «Ненавистное происходит от ненависти!..Как милостиво бросает владелец майората свои червонцы бедному нищему!»[55] А вот пример отношений между двумя другими братьями: «„Ты жалкий, несчастный нищий, – сказал старший, двенадцатилетний мальчик своему младшему брату, – когда умрет отец, я стану владельцем Р-зиттенского майората, и ты принужден будешь смиренно целовать мне руку, когда тебе понадобятся деньги на новый сюртук“. Младший брат, разъяренный высокомерной надменностью старшего, бросил в него нож, оказавшийся под рукой, и чуть его не убил»[56].
Елена Чиркова, посвятившая краткий обзор художественной литературе о майорате, отмечает, что в Англии система майората сформировалась в XIII веке и поэтому «больше всего упоминаний о майорате в английской литературе, во многих произведениях он движет сюжетом»[57]. В качестве примера приводится «Гордость и предубеждение» Джейн Остин (1813). За неимением сыновей имение одного из героев должно перейти к его кузену. «…Который после моей смерти сможет вышвырнуть вас из этого дома, как только ему заблагорассудится», – говорит герой своим дочерям. Их матерью это воспринимается как ужасно несправедливое деяние. В новелле немецкого романтика Ахима фон Арнима «Майорат» (1820) описывается майорат-хаус неких благородных господ фон ***, владельцы которого живут за границей. В это же время их дворецкий периодически раздает милостыню нищим, среди которых «с легкостью могли бы, когда б не стыдились того сами, сыскаться и родственники хозяев, поскольку при основании майората о младших ветвях родословного древа предпочли не вспоминать». Герой произведения фон Арнима, Лейтенант, рассказывает историю о том, как он сам едва не получил майорат: «…мне было тогда лет тридцать, а дядюшке моему – шестьдесят, а детей у него не было. И взбрело же ему в голову жениться еще раз, и на молоденькой. Тем лучше, подумал я, она-то его насмерть и уездит. Но обернулось к худшему; он, конечно, вскорости помер, однако жена его незадолго до этого успела-таки родить ему сына, нынешнего майоратс-герра, а я остался с носом!» В связи с этим Лейтенант, несостоявшийся наследник майората из новеллы фон Арнима, рассказывает о «совершенно кошачьих» законах, царивших в его большой семье: «Первенца кормят, холят и лелеют, а младших его братишек и сестренок суют в помойное ведро головою вниз, и все дела».
Конфликтуют старший и младший братья в комедии Шекспира «Как вам это понравится», где майорат – экономическая предпосылка сюжета. Действие происходит во французском герцогстве. Умирает Роланд де Буа. Наследство распределено между тремя сыновьями примерно как в сказке «Кот в сапогах». Почти все отписано старшему, Оливеру, с поручением позаботиться о двух других – Жаке и Орландо, в том числе дать им образование, приличествующее знатному статусу. Младший, Орландо, получает согласно бумагам «какие-то жалкие тысячу крон» собственных денег, но и те остаются в распоряжении старшего брата. Оливер обращается с Орландо как со слугой. Жака он хотя бы отправляет в школу, а младший сидит дома, ужинает за одним столом с челядью, в него вкладывают «меньше, чем в лошадь», – тех хотя бы объезжают, нанимая наездников.
Как только Орландо начинает высказывать претензии, старший брат прерывает его властным: «А знаете ли вы, перед кем вы стоите?» В ответе младшего – конфликт книги: «Я знаю, что вы мой старший брат, и в силу кровной связи и вам бы следовало признавать меня братом. Обычай народов дает вам передо мной преимущество, так как вы перворожденный; но этот же обычай не может отнять моей крови, хотя бы двадцать братьев стояли между нами! Во мне столько же отцовского, сколько и в вас, хотя, надо сказать правду, вы явились на свет раньше меня, и это даст вам возможность раньше добиться того уважения, на которое имел право наш отец»[58].
Даже там, где конфликт не носит непримиримого характера, все обстоит отнюдь не безоблачно. «Главные герои „Виргинцев“ Теккерея – братья Джордж и Гарри – сосуществуют более мирно, нежели сыновья де Буа и отпрыски Губерта, несмотря на то, что старший получает по майорату почти все семейное наследство. Госпожа Эсмонд „с величайшей торжественностью провозгласила своим наследником и преемником старшего сына Джорджа, а младшему, Гарри, который был моложе своего брата на полчаса, с этих пор постоянно внушалось, что он обязан его уважать“. Сердце матери не могло смириться с тем, что одному – имение, другому – „чашка чечевичной похлебки“. Да и в том, что старший сын будет обходиться с младшим достойно, у нее уверенности не было, потому что старший был „непокорным сыном“. И „вдова принялась упорно копить деньги для младшего обездоленного сына, как повелевал ей материнский долг“…»[59]. У нее были для этого основания, поскольку в ином случае младший сын мог бы в лучшем случае претендовать на скромный стол, кров, одежду, деньги на карманные расходы при весьма вероятной перспективе потерять и это после смерти матери и в случае утраты дружеского расположения старшего брата.
Другая ситуация, в ряде аспектов более показательная, чем описанная выше, – это положение бастардов в средневековой Европе. До XII века высокородные бастарды даже формально могли претендовать на то же, что и законные наследники могущественных аристократических и королевских родов. Карьеры Вильгельма Завоевателя и Владимира Красное Солнышко – яркие тому свидетельства. После датского короля Свена II целых пять его незаконнорожденных преемников быстро сменили друг друга на датском троне: Харальд III, Кнуд IV, Олаф I, Эрик I, Нильс. Бастарды на датском престоле того периода не были редкостью, поскольку законный брак считался желательным, но необязательным. В других местах дела обстояли аналогичным образом. Например, согласно валлийскому праву, еще в начале XIII века бастарды, признанные отцами, имели право на имя отца, его опеку, наследовали имущество и власть[60]. Затем, как отмечает Галина Зеленина, «возможности для них сократились (в отличие от предшествующих столетий, бастарды аристократов больше не могли быть признаны наследниками, стать князьями церкви или – в Англии – пэрами), но при этом их статус и имеющиеся права были юридически зафиксированы, и в этом смысле бастарды были узаконены»[61]. Такое двусмысленное положение не позволяло бастардам законно претендовать на высшие места в социальной иерархии[62]. Тем не менее и после XII века бастарды нередко добивались высокого положения. Например, английская королева Елизавета I была рождена в браке, но отец позже назвал ее незаконной дочерью. Бастардом был португальский король Жуан I, прозванный Великим. Маргарита Пармская, дочь императора Карла V, которой были отданы в управление Нидерланды, со стороны матери имела очень скромное происхождение: горничная. Русская императрица Елизавета Петровна также не была рождена в законном браке. Бастарды имели шанс достичь своего силой, когда мятежная знать поддерживала их против законных наследников. Показательно, что в произведениях вроде французской эпической поэмы «Рауль де Камбре» и других текстах бастардами оказывались самые любимые и почитаемые герои – например, король Артур и Карл Великий[63]. Позже манифест такого рода настроений прозвучит из уст Эдмонда, побочного сына Короля Лира:
Побочный сын! Что значит сын побочный?
Не крепче ль я и краше сыновей
Иных почтенных матерей семейства?
За что же нам колоть глаза стыдом?
И в чем тут стыд? В том, что свежей и ярче
Передают наследственность тайком,
Чем на прискучившем законном ложе,
Основывая целый род глупцов
Меж сном и бденьем? Да, Эдгар законный,
Твоей землей хочу я завладеть.
Любовь отца к внебрачному Эдмонду
Не меньше, чем к тебе, законный брат,
Какое слово странное: «законный»!
Ну ладно, мой законный. Вот письмо,
И если мой подлог сойдет успешно,
Эдмонд незнатный знатного столкнет.
Я в цвете сил. Я подымаюсь в гору.
Храните, боги, незаконных впредь![64]
Не проявляется ли таким образом исторически первая, аристократическая форма ресентимента, когда самым любимым и достойным объявляется ущемленный в правах, но в конечном счете добивающийся своего бастард? И не отсюда ли вытекает «ресентиментное» представление, что возвеличивать надо исключительно по заслугам, а не по происхождению, – представление, которое позже станет идеологическим оружием в руках противников наследственных привилегий? Несмотря на то, что положительные ответы на эти вопросы кажутся нам обоснованными, ожидаемо возражение следующего характера. Не смешиваем ли мы здесь разные, хотя и близкие явления: ресентимент (ressentiment), с одной стороны, и чувства негодования и обиды (resentment) – с другой?[65]
42
Шелер М. Ресентимент в структуре моралей. СПб.: Наука, Университетская книга. 1999. С. 21.
43
Аристотель. Риторика. Поэтика. М.: Лабиринт, 2000. С. 81–82.
44
Кустарев А. The Word of the Day is Resentment // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. 2017. № 1. С. 8.
45
Сеннет Р. Падение публичного человека. М.: Логос, 2002. С. 315.
46
Фассел П. Класс: Путеводитель по статусной системе Америки. М.: Изд. дом ВШЭ, 2021.
47
История этических учений / под ред. А.А. Гусейнова. М.: Гардарики, 2003. С. 690.
48
Яков Кротов в свое время остроумно заметил: «Ресентимент царский или аристократический первым высказался – ведь царь и аристократ раньше холопа получает перо и бумагу» (см.: Кротов Я. Свойства без человека. URL: http://krotov.info/1/old/2_chelovek/2_svoystva/resentiment.htm?ysclid=lp6rdydmzu143278509).
49
Блум Г. Западный канон. Книги и школа всех времен. М.: Новое лит. обозрение, 2017. С. 12.
50
Мчедлова М.М., Казаринова Д.Б. Политика идентичности: конкуренция новых теоретических смыслов и политических стратегий // Политическая наука. 2020. № 4. С. 28.
51
Миллер А.И. Большие перемены. Что нового в политике памяти и в ее изучении? // Политика памяти в современной России и странах Восточной Европы. Акторы, институты, нарративы / под ред. А.И. Миллера, Д.В. Ефременко. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2020. С. 12.
52
Монтескье Ш.Л. де. Персидские письма. URL: https://librebook.me/lettres_persanes/vol1/120 (дата обращения: 30.03.2021).
53
Мелетинский Е.М. О литературных архетипах / Рос. гос. гуманит. ун-т. М., 1994. С. 67.
54
Там же.
55
Гофман Э.Т.А. Майорат. URL: https://www.litmir.me/br/?b=56607 &p=13 (дата обращения: 30.03.2021).
56
Там же. URL: https://www.litmir.me/br/?b=56607&p=18 (дата обращения: 30.03.2021).
57
Чиркова Е. Неравный брат: Как принципы наследования разрушали империи и сохраняли капитал // Коммерсантъ Деньги. 25.08.2014. № 33. С. 45.
58
Чиркова Е. Указ. соч. С. 45.
59
Чиркова Е. Указ. соч. С. 45.
60
Лошкарева М.Е. Johanna domina Walliae // Вестник Томского государственного университета. История. 2017. № 50. С. 100.
61
Зеленина Г. Кто такие бастарды? 09.08.2017. URL: https://postnauka.ru/faq/79120 (дата обращения: 30.03.2021).
62
Даже и в более поздние времена перспективы бастардов всецело зависели от богатства и произвола родителей. Так, в дореволюционной России одним бастардам доставались графские титулы, как четверым сыновьям фаворита императрицы Елизаветы Алексея Разумовского, другие могли рассчитывать на выдающуюся научную или литературную карьеру, как Василий Жуковский и Александр Бородин, а третьи становились изгоями, лишенными дворянских привилегий (см.: Черкашина Н.В., Лаврентьева Т.В. Внебрачные (незаконнорожденные) дети дореволюционной России: правовой аспект // Право и государство: теория и практика. 2020. № 1 (181). С. 194–195).
63
Зеленина Г. Указ. соч.
64
Шекспир У. Король Лир. Акт I. Сцена 2 (пер. Б. Пастернака).
65
См., напр.: Fassin D. On Resentment and Ressentiment. The Politics and Ethics of Moral Emotions // Current Anthropology. 2013. Vol. 54. No. 3. P. 249–267; Reichold A. Resentment and Societal Transformation: A Rule-Related Argument against Martha Nussbaum’s Critique of Anger // European Democracy in Crisis: Polities under Challenge and Social Movements / H. Brunkhorst, D. Vujadinovic, T. Marinkovic, eds. Utrecht: Eleven International Publishing, 2017. P. 167–187; TenHouten W.D. From Ressentiment to Resentment as a Tertiary Emotion // Review of European Studies. 2018. Vol. 10. No. 4. P. 49–64.