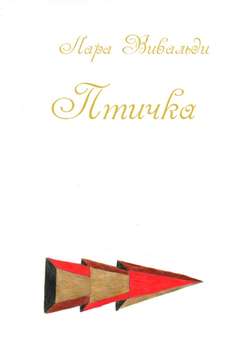Читать книгу Птичка - Лара Вивальди - Страница 4
II
Оглавление«Сколько себя помню, я всегда мечтал прославиться,» – писал как-то Валентайн в своём дневнике.
Он вёл дневник почти всю свою сознательную жизнь. И делал это только потому, что опасался забыть что-то очень важное. Больше всего в своей жизни он боялся потерять память и жениться на толстухе. Потеря памяти была для него страшнее конца света. Он был как никогда уверен, что его одолеет либо болезнь Альцгеймера, либо старческий склероз.
«Я всегда хотел прославиться, но никогда не знал, каким именно путём, – писал он. – Я хотел быть музыкантом, актёром, поэтом и даже акробатом в цирке. Увы, я никогда не мог понять, какой именно род занятий мне ближе. И всё же, я решил для себя стать живописцем. К тому же женщины любят их. Это уж точно! Они боготворили меня, как ненормальные. Они любили и обожали меня. Они готовы были практически на всё, дабы заполучить меня. И мне это нравилось. Я играл их любовью, как только моей душе было угодно. Чистая правда! Абсолютно все женщины любили меня. Абсолютно все пытались добиться от меня взаимной любви. Абсолютно все… Кроме одной Дюймовочки…»
Жаль, но Дюймвочке Месье Валентайна, – напомню, что её звали Розали, – не посчастливилось встретить в жизни человека, которым она могла бы восхищаться так же пылко, как женщины восхищались художником. Её круг общения был очень небольшим. И, признаюсь честно, Валентайн был самым искренним и добрым человеком из всех, с кем ей удалось повстречаться.
В отличие от Валентайна, она всегда считала, что чем меньше людей знает о её существовании, тем меньше у неё проблем. Ей вполне было достаточно иметь двух-трёх верных друзей, на чью поддержку и помощь она могла бы рассчитывать в любое время.
Прошлое Розали всегда старалась поскорей забыть. Она никогда не понимала людей, которые дорожили своими воспоминаниями и жили прошлым. Розали всегда старалась уверено смотреть в будущее и считала, что именно вера в счастливое будущее и движет нами.
В её жизни был только один человек, который всегда с ней соглашался, но имел совершенно противоположные взгляды. И насколько бы ни были ужасны манеры этого человека, насколько бы дерзкими ни были его высказывания, его привычки, девушка, покидая его квартирку, старалась поскорее вернуться обратно, чтобы снова и снова любоваться его ленивой физиономией.
Розали около двух лет тому назад посчастливилось устроиться медсестрой в госпиталь Питье-Сальпетриер. Сколько же раз Валентайн отговаривал её от этой должности, советуя ей идти в актрисы. Розали решила не обращать никакого внимания на его упрёки. Она не была против, но ей нужно было работать, чтобы хоть как-нибудь содержать больного отца (в основном отцом занимался старший брат Розали). Но старик-отец никогда не ценил стараний дочери. Ему всегда казалось, что её действия направлены только на то, чтобы поскорее свести его со свету.
Помимо отца и брата у Розали ещё была тётя Адель, по отцовской линии; она жила в Верхней Нормандии, откуда родом вся семья девушки.
Если говорить об интересах, то кроме живописи, Розали ещё любила кино. Кино, – по её мнению, – было лучше книг, газет и театра. Она любила кино, как никто не любил. Она свято верила, что только карьера киноактрисы принесёт ей счастье. Девушке одинаково были интересны и «Безумие доктора Тюба», и «Убийство герцога Гиза», и даже «Я обвиняю» с Ромуальдом Жоубе.
Скажу по секрету, вечерами Розали часто сидела у открытого окна и думала о том, что когда-то она, как всегда, выйдет из дома и направится быстрым шагам в сторону госпиталя Питье-Сальпетриер, но, не задумываясь, радостно пройдёт мимо и направится в киностудию. Она представляла, как перед ней открываются высокие ворота киностудии, как она с улыбкой на лице здоровается с каждым её работником, как она в перерывах между съёмками оживлённо рассказывает режиссёру о своей былой жизни, как с увлечением её заманчивые речи слушает сам Жоубе, о том, как она счастлива и любима.
***
Спустя неделю девушка вновь направилась в гости к художнику. Она остановилась на середине проезжей части, которая очень часто пустовала, и вновь, как и неделю назад, пробормотала: «О, Валентайн, Валентайн!» поглядывая на приоткрытое окно на втором этаже, из которого мягкими белыми клубами валил густой дым.
Дверь в его квартиру, – как всегда, – оказалась незапертой. Услышав, что из неё не доносится ни звука, Розали тихонько приоткрыла дверь и также тихо зашла.
Поперёк кресла, задрав босые ноги к потолку, лежал художник, покуривая сигару и напевая весёлую мелодию, похожую одновременно и на «Французский марш», и на «Марсельезу».
Его лицо имело бледно-зелёный оттенок, а под глазами светились огромные тёмные круги. На полу валялись пустые тюбики красок, кисти и кисточки, испорченный чёрной краской портрет и разломанный на две части деревянный мольберт.
– Валентайн!? – испуганно воскликнула девушка. – Что это?
Художник попытался пожать плечами и произнёс:
– Как видишь – сплошной беспорядок.
– Я вижу, – ответила Розали.
– Ты, наверное, уже успела плохо обо мне подумать, – говорил он, – но не стоит этого делать. Ведь весь этот ералаш – дело рук Жозетты…
– Жозеф… – начала было девушка.
– Да, я знаю, знаю. Не важно!.. Так вот, она вчера, значит, пришла, принесла мне сигары, с таким напудренным белым лицом, и спросила меня, когда я планирую начать работу над её божественными руками. Ну, я и ответил, что не планирую, что у меня слишком много работы, заказы, очередь на год вперёд.
– И-и-и? – нетерпеливо протянула Розали, приподнимая с пола осколки разбитой вазы c рисунком китайского дракона.
– Так вот, стоило мне всего-навсего сказать: «Может быть вы, моя милая, Жозетта…» Как она разнесла вдребезги всю мою квартиру. С ужасом вспоминаю, как она сначала прыгала по комнате, потом покачиваясь, начала расхаживать со стороны в сторону, словно гигантский слон, и так громко орать: «Жозефина! Сколько можно! Я – Жозефина!»
– И-и-и?
– Что, и-и-и?! – возбуждённо произнёс художник. – Я, конечно же, не вернул ей свои сигары. Вот только кто мне будет приносить новые? Покупать – слишком дорого. У меня денег на краски то и нет, приходится довольствоваться карандашом.
– Интересно, – произнесла Розали, раздумывая совсем об ином.
Спустя несколько минут она сказала:
– Как давно ты выходил на улицу?
Месье Валентайн призадумался, покосившись на открытое окно.
– Около месяца тому назад я выходил… Да! Но всего лишь на несколько минут: соседский кот так громко выл, я никак не мог сосредоточиться на искусстве. Сначала я долго целился в него пустым скрученным тюбиком из окна, но потом вышел на улицу и запустив в него лакированными башмаками сына моей соседки-старушки мадам Луизы Шарби. Он разулся перед входной дверью и оставил их в подъезде. Вот он странный! Как же он громко стучал своими каблуками, как американский степист!
Художник поманил девушку к себе рукой. Та, не задумываясь, медленно подошла к нему и присела на стульчик возле кресла.
– Он до сих пор думает, что их украл какой-то Жерар, который помадит волосы. Не слышала о таком? – прошептал Валентайн.
– Ну, как так можно, – ласково проговорила девушка. – Этот мужчина ничего тебе не сделал плохого.
– Ты бы видала его лицо, когда он снимал свои ботинки. Оно было таким горделивым и гадким. Я бы никогда не подумал, что он сын мадам Луизы Шарби. Она единственная из жильцов этого дома, кто ещё никогда не ругал меня за мои выходки. Ну, не считая, конечно, того малыша Фредерика, который появился на свет три месяца тому назад.
– Мне кажется или ты заговариваешь мне зубы?
– Свежего воздуха мне достаточно.
Девушка улыбнулась и произнесла:
– Скорее одевайся!
– Ты хочешь выгулять меня?
– Если бы, – рассмеялась девушка. – Если бы ты был собакой, то ты бы, верно, сам тянул меня на прогулку. Скорее! Скоро стемнеет.
– Я столько раз видел ночной Париж…
– А представь, что ты впервые в Париже. Куда бы ты отправился тогда?
Недолго думая мужчина приподнялся с кресла и ответил:
– К Эйфелевой башне, конечно же!
Спустя каких-то сорок минут они уже вместе прогуливались вдоль проспекта Сюффрен.
Вместе они смотрелись очень мило и забавно. Она – жизнерадостная невысокая хрупкая девушка в модном зелёном платье, и он – худой высокий мужчина с замысловатой бородкой, гладко зачёсанными назад волнистыми волосами и бледной кожей. Эта парочка привлекала взгляды многих прохожих.
Мужчина отставал от своей спутницы на шаг, а она решительно тянула его за собой, как мать ребёнка, который боится зайти в кабинет врача и вот-вот закатит истерику.
Им навстречу шли две молодые девушки, одетые очень модно и со вкусом. Валентайну они приглянулись. Что греха таить! Он очень любил женщин, но тщательно скрывал этот факт. По его мнению, они выглядели уж слишком «дорого». Вряд ли такие пришлись бы ему по карману.
Приметив физиономию исхудавшего, бледного Месье Валентайна, они тут же отвернулись от него. Начинающего деятеля искусств это смутило, и он тоже от них отвернулся.
– Тебе не кажется, что Париж как-то изменился? – спросил Валентайн свою спутницу.
– Нет, – растерянно ответила Розали. – Мне наоборот всё кажется таким знакомым, привычным…
– Ты разве не заметила, что в том магазинчике по-новому оформлена витрина?
– В том?! Нет, не заметила.
– Хочешь, я могу научить тебя видеть мир всё по-другому?
– По-другому?! – удивилась девушка.
– Да! Ибо если мы всегда всё будем видеть одинаковым, мы просто сойдём с ума. Понимаешь, именно обыденность вызывает у нас гнетущее чувство тоски, уныние и желание покончить с жизнью. Это словно недуг.
– И как же он называется?
– Я не знаю, как называют его другие. Но я называю «душевной агонией». Им страдают многие люди.
– И ты тоже? – спросила девушка.
– Нет! Я вижу всё по-другому. Вряд ли многие сумеют просидеть взаперти несколько месяцев в тишине, наедине с мыслями и ни разу даже не задуматься о своей неполноценности и о неполноценности сего мира.
– Да, наверное! – согласилась девушка. – По-другому?.. И как это?
– Очень просто. Главный принцип – это логическое мышление и твоё воображение.
Они одновременно остановились возле маленькой одинокой скамеечки напротив «Кафе Кармин» и одновременно присели на неё.
– Вон, – спокойно сказал Месье Валентайн, положив ногу на ногу. – Одинокий джентльмен – престарелый английский денди в толстых очках. Как ты думаешь, что он ищет?
Девушка удивленно посмотрела на своего собеседника, слегка приоткрыв рот.
– А откуда ты знаешь, что он английский джентльмен?
– Всё это позже. Сначала, пожалуйста, попробуй ответить на мой вопрос: что он ищет?
– Но, на это очень трудно ответить, – замешкалась Розали.
– Ну-у-у?!
– Откуда мне знать? И к тому же причём здесь всё это?
– Хах! И такие вопросы мне задаёт актриса?
– Я не актриса, я…
– Какая разница, кем ты работаешь. Ты тот, кем ты хочешь и стремишься быть. Ты тот, кем ты являешься в душе.
Девушка глубоко вздохнула, воскликнув:
– Но как?
Художник провёл взглядом незнакомца; тот оглянулся по сторонам и завернул за угол.
– Наблюдательность, – уверенно ответил Валентайн. – Как же можно быть человеком, не замечая других людей?
Девушка смутилась и опустила взгляд.
– Я вижу, – проворчала она.
– Этого недостаточно – просто видеть… Да, простым людям можно видеть всё очень скупо, но я – художник, и мне нужно видеть намного больше. Ты считаешь его обыкновенным прохожим, таким же, как и любой другой. По-твоему, он ничем не отличается от простых, беззаботных, любопытных туристов. Но, нет!
– Как?.. – начала было Розали.
– Как я понял, что он турист? Английский турист? – опередил её Валентайн. – Очень просто! На нём был чёрный фрак. Как часто ты видишь простого человека, который вышел на прогулку, – тем более турист, – в чёрном фраке?
– Довольно часто, – удивлённо ответила девушка, оглядывая художника с ног до головы.
– Меня можно было и не считать, – застенчиво ответил он, – мне больше нечего надеть… Так вот, – продолжал он, повышая тон. – Фрак сейчас уже без повода никто не носит – это раз. Он, видимо, дипломат. Потому что даже англичанин не будет прогуливать по Парижу во фраке. Это очень непрактично. К тому же он очень занятой и скорей всего впервые в Париже – это два. Слишком короткий спереди и слишком длинные фалды сзади, – так может только Англия, – это три. У него огромные очки с толстыми линзами, левый глаз слезка прищурен – раньше, верно, он предпочитал носить монокль, окончательно испортив себе зрение – это четыре. И зрение у него настолько плохое, что он даже не может приметить Эйфелеву башню, в триста двадцать четыре метра высотой, перед своим носом – это пять!
– Хорошо, а как мы узнаем, что это правда?
– Пойдём!
Художник резко вскочил со скамьи и, крепко схватив Розали за руку, быстро потащил её за собой. Они свернули за угол кафе и побежали вдоль площади Жоффр. Спустя минуту они настигли английского туриста. Он, приметив их, встрепенулся и отскочил в сторону.
– Excuse me, – проговорил он, – I looking for Eiffel Tower.
Месье Валентайн указал рукой в сторону бессмертного символа французской столицы.
Англичанин оглянулся, затем приподнялся на носки и, приоткрыв рот, воскликнул:
– Spire! How beautiful!
Он повернулся и, вприпрыжку, как ребёнок, помчался обратно к проспекту Сюффрен. Мимо него медленно ковылял старичок лет девяноста с длинной белоснежной бородой. Увидев англичанина, скачущего ему навстречу, как умалишённый, он даже отпрыгнул в сторону, чтобы пропустить чудака. Старичок усмехнулся, взглянув на Розали, поражённую удивлением, и заметил:
– Да, Париж умеет творить чудеса! Из свихнувшихся приезжих он делает окончательных безумцев.
– Видишь, – заметил художник, – не обязательно обладать особым даром, чтобы понимать, кто есть кто.
– Да, туристов вычислить можно почти что сразу, – ответила Розали. – Они всегда что-то ищут, останавливаются, чтобы разглядеть повнимательней каждый куст, задумываются о форме этих кустов, их положении. А ещё они заходят в дорогие магазины, с удовольствием скупают различную ненужную мелочь и не жалеют о том, что потратили слишком много денег.
– Верно, – согласился Валентайн. – Когда мы выходили из дому, ты обещала мне что-то сказать. Помнишь?
– Я?! – растерянно воскликнула девушка. – Ах, да!.. Через несколько дней я уезжаю к своей тёте Адель в Верхнюю Нормандию, в Руан.
– Тётя Адель? – принялся вспоминать художник. – Та, что так и не вышла замуж?
Розали с удивлением взглянула на своего собеседника, и, отпустив его ледяную руку, быстро зашагала вперёд.
– Как?! Ты обижаешься?! – воскликнул Месье Валентайн, безнадёжно взмахнув руками. – Но ведь это правда! Она ведь не вышла замуж и никогда не выходила. Так ведь?
– Зачем несколько раз повторять слово «ведь»? – ответила девушка вопросом на вопрос. – Если бы ты писал рассказ или какое-нибудь другое произведение, оно бы получилось… Получилось…
– …Слишком малограмотным и скупым, – подхватил художник.
Несколько минут они молчали, медленно шагая к проспекту Бурдоне. Розали смущённо опустила голову вниз и внимательно разглядывала свои туфельки, словно видит их впервые. Художник, наоборот, шёл с гордо поднятой головой, наблюдая за позолоченными солнцем мягкими облаками.
– И всё-таки, если начинать писать книгу, то, – для начала, – нужно подумать, вернее, даже продумать и записать каждую замысловатую фразу, затем выстроить их в определённом порядке, и только потом, в конце, воссоединить их с текстом – наполнить произведение моральностью. – Рассуждал художник. – Потому что, книга без моральности – никакая не книга, а обычная брошюра, которую никто никогда не прочитает просто так, для удовольствия.
Девушка с интересом вслушивалась в его речь. Она даже подумала, что эта самая речь и есть той замысловатой фразой, которая когда-то поможет другим, таким же замысловатым фразам, вместе создать целую моральность одного большого произведения.
– Так, твоя тётя живёт в самом Руане? – спросил Валентайн, приблизившись к своей спутнице.
– Да! То есть, нет! Не в городе – за его пределами, недалеко.
– В пригороде?
– Да.
– Хм-м.
Месье Валентайн задумался, почёсывая свою бородку. Мимо него пронеслись две девушки, лет шестнадцати. Увидев мужчину пленительной красоты с пугающим волчьим взглядом, они решили обойти его «десятой дорогой». Художник в ответ на их реакцию только пожал плечами.
– И как долго ты там будешь? Неделю?
– Я планирую остаться там до августа.
– До августа? – вскричал Валентайн, выпучив глаза. – Это ведь почти два месяца!
– Да, – согласилась девушка.
Художник ничего не ответил. Он только вздохнул и словно погрузился в глубокое отчаяние.
Девушка улыбнулась и сказала:
– Не волнуйся, с работы меня отпустили. У меня ведь почти два года не было каникул. Я вернусь…
– Целых два месяца в молчании, наедине со смертной скукой, – пробормотал он.
– Не волнуйся, я привезу тебе птичку – соловья. Помнишь, ты хотел птичку? Моя тётя очень любит певчих птиц. В особенности…
– …Красного кардинала, – подхватил художник. – Да, я знаю. Ты рассказывала мне об этом когда-то. Однако эта птица привлекает не так пением, как яркой окраской. Правда, ведь?!.. А я люблю слушать пение лесной завирушки. Ты слышала?
Девушка отрицательно покачала головой.
– Эта птица нисколько непривлекательна – напоминает воробья. Но её пение, её голос!.. – Месье Валентайн на минуту задумался. – Ведь у птиц это тоже называется голосом? Я имею в виду: «оно» характеризуется, как голос? – Художник принялся делать медленные, плавные круговые движения руками, желая объяснить задуманное жестами. Однако попытки оказались бессмысленными; девушка не поняла его намёков.
Осознав безуспешность своих действий, Валентайн поражённо опустил голову. Спустя несколько секунд он приподнял её, улыбнулся, и неожиданно для Розали, резко приблизился к ней настолько близко, что она даже испугалась не на шутку.
– Представь, – прошептал художник, – что-то похожее на скрежет стальной патефонной иглы и этот звук, который издаёт стекло, когда его тщательно трут тряпкой. Представляешь?
– Нет, – отрезала девушка.
Мужчина глубоко вздохнул и пробормотал:
– В прошлый раз, когда ты уезжала, ты помнишь?..
– Конечно же, я помню, Валентайн, – раздражённо ответила Розали, – твою квартиру, заросшую густой паутиной, застывшую чёрную краску на стёклах, которую до конца так и не удалось оттереть, разбросанные по комнате рваные куски бумаги и твой… И твоё ужасное бледно-зелёное лицо, как у мертвеца.
– Тогда я даже забыл французский – молчал целых шесть недель!
– Разве так сложно было просто выйти на улицу и…
– Мне этого было не нужно, – отмахнулся художник. – Так было задумано. Я хотел нарисовать тишину, и для начала я должен был её увидеть.
– Тишину, – проговорила девушка усмехнувшись. – Но как можно нарисовать то, чего не видишь? Тишина – она же никак не выглядит! Ведь нет такого предмета, как тишина, это всего-навсего такое понятие, оно невидимо.
– «Постоянство памяти».
– Что?! – удивилась девушка. – Я не расслышала.
– Шедевр испанского художника Сальвадора Дали – «Постоянство памяти». Время, которое плавится на солнце. Время, изображённое как часы. Потому что время ассоциируется с часами. «Просвещенные удовольствия» – тоже Дали – детские страхи самого художника.
– Страхи всегда видимы, поэтому их можно отобразить, – пояснила Розали.
– А как можно отобразить боязнь быть собой, боязнь социума, боязнь отношений или страх одиночества?.. Можно ли? Страх, характеризующий плохое предчувствие, боязнь потерять время, боязнь потерять что-то или кого-то. Как долго придётся наблюдать за поведением, за эмоциями человека, испытывающего этот страх, чтобы понять его и попытаться объяснить?
Девушка медленно покачала головой. Она и не собиралась отвечать, ведь даже не поняла, что художник задал ей вопрос.
На протяжении всего вечера Месье Валентайн старался хранить молчание. На его белом мраморном лице красовалась притворная улыбка. Розали же, наоборот, пыталась заговорить, но всё было напрасно, разговору так и не судилось состояться.
Ещё долго можно рассказывать об их прогулке по Парижу. Однако нет никакого смысла. Хочу заметить только, что Валентайну казалось просто необходимым сохранять непринуждённый весёлый вид. Он думал, что именно так он заставит девушку понять, что он совершенно не огорчён, что она уезжает. Художник задумал грандиозный план, и только тишина, спокойствие и несколько недель, предназначенных исключительно для размышлений над затеянным проектом, сумеют помочь ему осуществить сей грандиозный замысел.
Что он задумал?.. Пока что он сам ещё не понимал всей сути своей задумки, но она уже ему нравилась. Он считал себя счастливей всех жителей Парижа. Кому ведь ещё может взбрести в голову что-то настолько же величайшее?
«Разве что Пабло Пикассо,» – подумал бы художник.