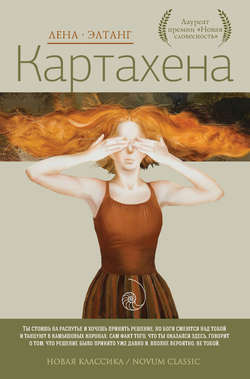Читать книгу Картахена - Лена Элтанг - Страница 8
Глава 1
Живой среди лисиц
Петра
ОглавлениеВ марте начались шторма. Траянский холм стоял перед морем, как воин со щитом, принимая удары ветра и грохочущей черной воды всем своим телом, всей просторной мускулистой скалой. Приземистые пинии и рослые кипарисы казались крепостной стеной, темнеющей у подножия холма, но ветер легко перемахивал стену и захлестывал вершину скалы ледяными брызгами, разбивая их в водяную пыль, оседавшую на стеклах «Бриатико».
Сестры и горничные перебегали из южного крыла в северное, накинув плащ на голову, – через зимний сад идти теплее, но в гостинице считают, что галерея, в которой он устроен, держится на честном слове. Галерею построил Аверичи, и выглядит она так себе, зато там можно курить, стоя у стеклянной стены и глядя на холмы. Похоже, только мы с Пулией решаемся заходить в зимний сад, да еще консьерж, который включает поливальные шланги. Даже в ненастные дни там душно от вересковой земли и гардении.
К субботе море немного притихло, завалив гостиничный пляж мусором. Теперь там было совсем безлюдно, и можно было разглядывать его сверху, различая то полоску красного каррагена, то пятнистую гальку, похожую на скорлупки от перепелиных яиц. Шторм мне тоже нравился – втайне я надеялась, что он сотрет «Бриатико» с лица земли.
Я помню этот день, 17 марта, потому, что с него начинаются мои записи: я завела тетрадку, выбравшись наконец-то в лавку в Аннунциату. До этого мне приходилось записывать свои мысли на листках, выдернутых из тетради с расписанием процедур. В полдень солнце вышло из облаков, и окна на всех этажах распахнулись одновременно, будто створки в часах с кукушкой. Старики потянулись в парк, не решаясь спуститься к морю, многие несли с собой сложенные вчетверо ветровки. Фельдшер Бассо явился в сестринскую и предсказал повальную простуду к понедельнику, так что мы решили вместо чая подать в столовой вечером горячее молоко.
Вечером администратор велел нам собраться в холле и заявил, что с этого дня ни один постоялец не спускается к морю один. В списке наших услуг добавится новая графа, сказал он, купание и сопровождение на прогулке. Хорошенькое дело, заметила Пулия, теперь мы будем ходить со старичками к морю, а хозяйка будет драть с них втридорога. Администратор у нас тосканец, поэтому он только кивнул и улыбнулся тосканской улыбкой: глаза сощурены, уголки рта едва заметно опускаются вниз.
Каждое утро он собирает официантов и горничных в пустом ресторане, выстраивает их в ровную линию и говорит им одно и то же: держите дистанцию, не болтайте чепухи и не стреляйте глазами. Тут вам не американское кафе с вафлями. Потом он проверяет воротнички и манжеты, долго принюхивается и, наконец, говорит: «С добрым утром, синьоры». На процедурную половину он не суется, там царствует Пулия, у них молчаливый договор, что-то вроде демаркационной линии в альпийских ледниках. Гостиничной стряпней тосканец брезгует и ездит обедать в «Relais Blu», по горной дороге, на велосипеде, как фермер, с задранной брючиной.
Теперь по утрам я вожу постояльцев на пляж и обратно, кроме тех дней, когда волны слишком высоки. Для некоторых это просто способ удрать из отеля, выпить вина, погрызть купленных с лотка жареных анчоусов и на людей посмотреть. Вот синьор Риттер, тот, например, выпивает бутылку белого и долго сидит в своем шезлонге, уткнувшись в свежий Мilanо Finanza. Говорят, он бывший владелец табачной фабрики, только она разорилась, и ему едва хватило денег оплатить богадельню.
Никто в этой лагуне против своей воли не утонет – вода даже мне по пояс, а я ростом с молодую белку, как Пулия говорит. Чтобы нормально поплавать, надо заходить в воду на другом конце пляжа, там есть уступ в подводной скале, два шага пройдешь, и накрывает с головой. На бесплатном пляже всегда полно парней, особенно серферов, загорелых, будто из красной глины вылепленных, они на меня поглядывают, им все оттуда видно – и моего спутника, и мою тоску.
Но это ничего, пусть. Я-то знаю, зачем я здесь. Закончу свои дела и сразу уволюсь, а как только уволюсь, поеду в Ротондо и приложусь к мощам падре Пио, чтобы помог маме поправиться.
В воскресенье на море был шторм, старики сидели по своим комнатам, и меня рано отпустили домой. Маме стало хуже, она меня с трудом узнала. Спросила, как дыни, поспели ли, велела пойти посмотреть; я сбегала к бакалейщику, купила дыню послаще и принесла ей, поваляв немного в земле за домом. Хорошо, что про отца она не спросила. Иногда у мамы в голове светлеет, и она берется за книги, хотя читать ей трудно: глаза слишком быстро двигаются.
Я с ней теперь часто разговариваю, сажусь напротив, латаю что-нибудь и рассказываю все подряд. А когда меня нет, к ней заходит соседка, синьора Джири. За полсотни в неделю. Когда брата убили, я сказала, что он получил работу на траулере и уехал, мол, там платят хорошо, а мама вдруг рассмеялась: уж теперь у Бри сыра будет сколько душа пожелает!
Брата прозвали Бри потому, что он вечно таскал сыр из холодильника, прямо с ума сходил, отец даже крючок к холодильнику прикрутил, чтобы дверцу было не открыть, тогда брат стал таскать сыр со стола за обедом и делать вонючие запасы по всему дому, отец смирился и крючок открутил. У них с отцом так всегда было – сколько ни воюй, а Бри побеждает, не мытьем, так катаньем, упрямый у меня братец был, говорили, что он в деда пошел. Деда-торговца я совсем не помню, только знаю, что он разорился на старости лет. Хотя нет, помню, что приходил кто-то, наклонялся, брал меня жесткими пальцами за лицо, говорил что-то мелкое, утешительное.
Еще помню, что елка в нашем доме всегда была голубая. Сама она была зеленой, разумеется, – елки на рынок привозили из Меты, мелкие, продолговатые, будто плоды опунции, – дело было в игрушках: в доме были только голубые атласные шары, штук сорок, не меньше. И еще пожухший серпантин в обувной коробке.
* * *
В ночь на воскресенье в отеле пропало электричество, администратору позвонили в Позитано, и он примчался на своем «мини-купере» с откидной крышей. Вслед за ним прибыл грузовичок с электриками в белых комбинезонах, которые рассыпались по территории, будто мраморные крабы. Повар стоял на крыльце столовой, заломив руки, его запасы за ночь подтаяли, и он собирался зажарить все разом, и мясо и рыбу, но угольной плиты в отеле не было, а электрики ничего хорошего не обещали. Постояльцы замерзли и собрались в клубе, поближе к камину, где уже пылали огромные дубовые бревна, а довольный Секондо сам разливал вино за счет заведения.
Пулия говорит, что с проводкой всегда были проблемы, с того дня, как на открытии «Бриатико» перерезали красную ленточку. Только тогда это был не совсем отель: в восточном крыле крутилась тайная рулетка, в библиотеке играли в покер, по всему парку были разбросаны беседки, а в комнатах стояли кровати в форме полураскрытых губ, обтянутые шелком. Теперь в парке осталась только одна беседка, на самой границе гостиничных владений, в низине, где когда-то была часовня. Беседку называют этрусской, потому что на перилах чем-то острым нацарапано «etruscum non legitur» – перила не раз перекрашивали, а надпись каждый раз проступает.
Отель процветал, пока не погибла хозяйка холма, синьора Стефания, которая жила во флигеле на северном краю поместья и держала собственную конюшню. В самой ее смерти поначалу не нашли ничего подозрительного: пожилая дама неудачно упала с лошади, прямо под копыта, но год спустя погибла еще одна женщина – переводчица, работавшая в гостинице, – всплыли какие-то странные обстоятельства, в Траяно приехали журналисты, и отель мгновенно опустел. Прямо посреди летнего сезона. Люди, которые туда приезжали, не хотели оказаться в центре внимания.
Разумеется, явилась полиция, а потом (когда стало известно о рулетке и прочем) еще и комиссия из министерства, и целое лето по лужайкам бродили только мужчины в форме, а сам Аверичи отсиживался на каком-то горном курорте. К осени шум поутих, но теперь за отелем наблюдали семеро нянек, и рисковать никому не хотелось. Казино пришлось уничтожить – если верить рассказам, игорные столы просто свалили в кучу в дальнем углу поместья и сожгли. Аверичи пригласил рабочих, снес несколько построек, рассказывая всем, что намерен расчистить земли под виноградники, затаился на два сезона, а потом возьми да и открой «Бриатико». Отель для одиноких богачей, на которых всем на свете наплевать. Никаких красногубых кроватей не осталось, теперь в комнатах все белое и голубое, будто аргентинский флаг, – очень непрактично. Даже ковры возле кроватей голубые, и почти на каждом засаленное место, где тапочки стоят. Старики они старики и есть. Из одного ресторана сделали столовую, ободрав позолоту, а из второго – клуб, но про клуб я потом отдельно расскажу.
В позапрошлом году в отеле еще был конюх, я его не застала. Говорят, он был крепкий мужчина, с прислугой держался холодно, зато лошадей вечно чистил да оглаживал. Постояльцы его невзлюбили и на занятия ездой почти не записывались. Так он и сидел возле конюшни часами, протирал свои сапоги куском замши и обиженно ворочал головой, а уйти не мог: доктор каждую фракционе в гостинице лично проверяет.
От тоски конюх совсем ополоумел и завязал роман с девчонкой из Вьетри, так что осенью его нашли висящим над морем в зеленой проволочной сетке, будто в авоське. Такие сетки у нас расстилают под деревьями, чтобы оливки понемногу падали в них сами. Сетка была повешена на буковое дерево, растущее на склоне горы, – крестьяне потом говорили, что убийца конюха пожалел его родню и не дал птицам и лисам растащить тело на клочья.
Лошадей после этого продали, а манеж переделали под теннисный корт с раздевалкой и душами. Сам хозяин не слишком жаловал теннис, зато его жена, дай ей волю, так и ходила бы в короткой юбке повсюду. Играет она так себе, зато кричит пронзительно, только и слышно: In! Out! Fifteen… love! Уроки ей дает тренер по имени Зеппо, до того белоголовый, что в первый день я приняла его за альбиноса. Он, в отличие от покойного конюха, любимец всех здешних теток, даже кастелянша норовит при встрече постучать его по спине кулаком. У этого Зеппо кожа будто у девочки, молочно-голубая, ни разу не видела, чтобы он покраснел или хотя бы от игры разрумянился.
В феврале тренера посадили под замок по подозрению в убийстве хозяина, но через пару дней комиссар его выпустил, и он снова появился на корте, как ни в чем не бывало. Несколько раз я приходила посмотреть на игру, но потом одумалась и перестала. Надо собраться, говорю я себе каждое утро, перестать любоваться магнолиями, мозаиками и особенно людьми. «Бриатико» слишком хорош, чтобы искать в нем убийцу. Он поселяет в теле ленивую кровь, а в крови – пузырьки блаженного предчувствия. Как будто что-то хорошее должно вот-вот произойти. Но я должна думать о том, что не произойдет уже никогда. Например, о том, что брату никогда не исполнится двадцать шесть.
В детстве у него была фантазия: добиться богатства или славы до того, как ему стукнет тридцать, он даже план разработал. Для начала поехать в Милан и устроиться шофером в богатый дом, это он в каком-то фильме увидел, затем соблазнить хозяйку и бежать с ней в Венесуэлу, прихватив семейные драгоценности. Бри окончил школу, скопил пару тысяч, получил права, уехал на север и вернулся спустя полгода в том же сером габардиновом пальто, которое я положила ему в чемодан на случай холодов. Ничего, говорил он мне тогда, до тридцати еще восемь лет, вот передохну немного и возьмусь за дело. А ты поезжай учиться, сестра, нечего тебе гнить в этой деревне, здесь, кроме рыбаков и бандитов, сроду не водилось мужиков. Останешься старой девой, как твоя тосканская тетка Кьяра.
Я уехала в две тысячи пятом, сначала в Бриндизи, а потом на север, в Кассино, там как раз открыли новое отделение в университете, и название показалось мне заманчивым: история и право. Проучилась два с лишним года, уже начала готовиться к диплому, но в марте пришло письмо от брата, и все посыпалось, внезапно, будто муравьиный рой с дубовых веток. В тот день, когда я получила письмо с фотографией, с утра дул мистраль, и в университетской аудитории было полно пыли. Я распечатала конверт на крышке парты, из него выскользнула открытка с дыркой в левом верхнем углу. На обороте было всего несколько строк, и они меня сразу насторожили.
Наверное, брат купил фото в антикварной лавке на виа Липца, там целый ящик стоит с такими сепиями: котята, замки, продавцы чеснока, кружевницы и голуби на площади. Но зачем он вырезал из нее без малого четверть? Никакого клада нет, подумала я, засовывая открытку обратно в конверт, никакого клада нет и не было. И потом – кто это в здравом уме станет ездить на «альфа-ромео»? Я знаю этот праздничный, немного мальчишеский тон, он всегда его использует, когда хочет меня обдурить. Но одно совершенно ясно – что-то необычное у него там происходит.
Выйдя из аудитории, я достала из сумки телефон и набрала наш домашний номер, не слишком надеясь на успех. Дома никто не отозвался, и сразу замяукал автоответчик, который я в прошлом году поставила для матери – она почти не подходит к телефону, боится плохих новостей. Это еще ничего, а вот года два назад она вырывала провода из телефонных розеток, объясняя, что по проводам в спальню приходят темные силы, скапливаются в мембране, в угольной пыли, и ждут своего часа, чтобы добраться до живущих в доме.
* * *
Вчерашнее совещание в клубе продолжалось до самой ночи.
Повар носил туда сыр и оливки, а вина у них и так хватало, даром, что ли, клуб от библиотеки отделяет целая винная стена в полметра толщиной. На одной ее стороне старинные книги на полках, а на другой – бутылки горлышками наружу. Посреди библиотечной комнаты стоит стол, купленный хозяином на аукционе: длинное полотно белой керамики, вручную расписанное лимонами и черным виноградом. Каждый раз, когда я на него смотрю, обещаю себе, что однажды у меня будет такой же стол и дом, подходящий для такого стола. Но до этого дня далеко: я живу в подвальной комнате для обслуги, ношу голубую униформу, слишком узкую в груди, купаю стариков в грязи, мучаю их электрическим током и всем одинаково улыбаюсь.
Я работаю в «Бриатико». Поверить не могу, что я работаю в «Бриатико».
За белым виноградным столом они, наверное, и сидели: доктор, старший фельдшер, администратор и глуповатая Бранка. С тех пор как не стало хозяина, они чуть что совет собирают: боятся, что вдова напортачит, если станет сама принимать решения. Правда, Пулия говорит, что дело не во вдове, а в том, что она завела себе приятеля из числа пациентов, и это до крайности раздражает совет. Приятеля зовут Ли Сопра, он выдает себя за капитана арктического судна, хотя на морехода ни капли не похож. На богатого старика, впрочем, тоже, хотя одевается на их обычный манер: свитера из альпаки, светлое кашемировое пальто в холодные дни. Маленький, крепкий, невозмутимый, он скорее похож на плотника из эллинга. Или на одного из тех парней, что сдают лодки в аренду и целый день сидят на складной табуретке под плакатом: «Лазурный грот – туда и обратно».
В отеле говорят, они были знакомы с покойным хозяином еще в юности, однако с тех пор, как Аверичи погиб, на прогулки вдовы с капитаном смотрят косо. Капитан живет в дорогом номере, держится особняком, на процедуры не ходит и купается один. По слухам, у него не хватает двух пальцев на ноге: он их отморозил в арктических льдах. Ли Сопра – Там Наверху — его прозвали за то, что на вопросы о своих плаваниях он всегда отвечал одинаково, тыкая большим пальцем в небо и приговаривая: там, наверху, знают, каким я был капитаном.
Пулия говорила мне, что после смерти хозяина отношения в совете стали портиться: у всех троих были разные планы по поводу отеля и его будущего. А ловкого, хладнокровного Аверичи уже не было рядом, чтобы их утихомирить.
Не помню, писала ли я, что хозяина застрелили в беседке возле южного флигеля за три недели до смерти моего брата. В деревне поговаривали, что это дело рук местной мафии, мол, он им сильно задолжал, но комиссар говорит, что это чушь собачья. С мертвеца им долга не получить, пояснил он мне, когда мы в первый раз встретились в участке, это ведь не сицилийцы, а прижимистые амальфитанцы, они еще в эпоху лангобардов славились своим умением выбивать долги. Тут что-то личное, сказал он тогда, не будь у его жены такого прочного алиби, я давно уже выписал бы ордер на ее арест. Тем более что в парке той ночью видели светловолосую женщину, быстро идущую по аллее в сторону беседки, очень быстро, почти бегом.
Вчера я дежурила в процедурной и слышала, как совещание закончилось; голоса у всех четверых были взвинченные, похоже, что к полуночи совет опустошил немало бутылок. Винные полки в клубном зале похожи на здоровенные медовые соты, они остались от прежних времен, когда в отеле жили люди, способные выпить больше стаканчика портвейна после обеда.
Книги здесь вообще никто не читает. Ни разу не видела, чтобы у полок задержался кто-то из постояльцев – старики берут свежие газеты, спрашивают про письма и уходят. Я слышала, как библиотекарша Вирга говорила администратору, что пароль от компьютера за всю зиму у нее попросили только четыре человека. Я знаю, что один из них – гостиничный пианист, по прозвищу Садовник, видела однажды, как он сидел в Виргином кресле и быстро стучал по клавишам, очки у него висели на шее на черном кожаном шнурке. Ладно, про Садовника пора уже особо рассказать.
Я увидела его лицо вблизи, когда несла душистые соли в хамам, столкнулась с ним на служебной лестнице. Рубашка у него была белая, льняная, а кожаные шлепанцы надеты на босу ногу. Я еще подумала, что он, наверное, служит в конторе, раз его не заставляют носить униформу.
– Извините, – сказал он наконец и боком протиснулся между мной и перилами.
Я пошла дальше, с досадой осознав, что стояла там слишком долго, уставившись на него, как деревенская дурочка. Глаза у Садовника оказались темно-сизыми, будто ягоды турецкой жимолости, с какой-то даже изморозью. Забавно, что я впервые взглянула ему в лицо, хотя уже видела его голым. Неделю назад на поляне возле заброшенных конюшен, на северном склоне холма.
В тот день я почти не работала, мне выдали униформу и разрешили уйти еще до полудня, чтобы освоиться. Я обошла все гостиничные этажи, прогулялась по парку, удивилась зарослям олеандра, который моя тетка Кьяра считала ядовитым (кто увидит – счастлив бывает, а кто съест – тот все забывает, говорила она), и решила спуститься к морю по парадной лестнице, как положено. Раньше, когда мы с братом пробирались на территорию поместья, то пользовались потайными путями: в одном месте можно было перебраться через стену, а в другом – протиснуться в собачью дыру в стене.
Я отправилась туда через парк, по широкой дороге, усыпанной белым гравием, но дорога внезапно свернула влево, превратилась в тропу, потом в тропинку и уперлась в бревенчатую стену конюшни. Пустырь зарос колючим кустарником, и к дому я решила не ходить, а в пристройку заглянула, увидев неплотно прикрытую дверь. Раньше здесь была кухня, без сомнения. На дубовых балках еще остались крюки, к которым подвешивали еду: фиги, нанизанные на бечевки, салями, помидоры и чили, высушенные на стеблях, а может быть, омытые вином задние ноги свиных туш.
У нас с мамой в кухне такие же балки, и крюки давно торчат без дела. Раньше там висели косицы чеснока и лука, у стены лежали пирамиды зеленых зимних тыкв, уложенных друг на друга, а полки были заставлены рядами банок с абрикосами sotto spirito. Но эти времена уже не вернутся. Когда в доме нет мужчин, любая работа кажется лишней.
Кто-то превратил кухню в жилую комнату, немного похожую на лавку старьевщика. На полу лежала облезлая медвежья шкура, у стены – что-то вроде лоскутного ковра, свернутого в рулон, под потолком поблескивала люстра, качавшаяся на крюке, будто елочная игрушка. Вместо лампочек в патроны были вставлены четыре оплывшие свечки. Это выглядело как жилье, но хозяина, похоже, не было дома.
Я обошла вокруг здания и вышла на поляну, которую задумывали как патио с фонтаном в виде бобра, стоящего с разинутым ртом. Каменная тушка бобра лежала на земле, ее давно и плотно заплел вьюнок. С севера поляну закрывала стена, сложенная из розового туфа, за стеной виднелись кривые деревца оливковой рощи, подступающей со стороны холмов.
Эта роща принадлежит поместью, но ее давно забросили – с тех пор как закрыли давильню в Кастеллабате, оливки приходится возить слишком далеко. Хозяину давильни надоело оливковое масло, и он занялся каштановым пивом. В детстве меня смешила выбитая полуметровыми буквами на стене его пивоварни фраза: Aqua fa ruggine. От воды ржавеют.
* * *
Поляна заросла высокой травой с пушистыми колосьями, и я не сразу заметила человека в этой траве – он лежал на спине, раскинув ноги и прикрыв лицо соломенной шляпой. То, что он постелил на землю, смахивало на казенное одеяло, белое с голубым. Я прошла еще несколько шагов и увидела его смуглое тело целиком. Такого загара, цвета каштановой скорлупы, у итальянцев почти не бывает, для него нужна северная, светлая от рождения кожа. Волосы у незнакомца тоже были северными, они почти сливались с соломой, из которой была сплетена широкополая шляпа.
На постояльца он уж точно не похож, подумала я, пробираясь к дороге вдоль туфовой стены, где трава была не такой острой. Бродяга или кто-то из служащих? Кусок туфа, на который я опиралась, зашатался у меня под рукой, выпал из кладки и шлепнулся в кусты, оттуда с писком вылетела красногрудая коноплянка. Я замерла: человек услышал шум, сладко потянулся и сел в траве. Потом он поднялся, свернул одеяло и направился к дому – худой и коричневый, будто дервиш. Я тихо стояла за стеной, пока он не скрылся в своем жилище, а потом вернулась в отель и спросила о нем у своей начальницы.
– Это наш гостиничный пианист, – сказала Пулия, усмехнувшись, – правда, хорош? Он играет в нижнем баре: два часа до ужина, а по воскресеньям – до самого отбоя. Но с какой стати ему отираться в конюшнях?
Я не стала рассказывать о том, что видела. Может, человек не хочет, чтобы его убежище обнаружили. Ночью, когда мы выпили чаю и улеглись на свои корабельные койки, Пулия вдруг засмеялась в темноте и сказала мне, что прозвала парня Садовником с тех пор, как увидела, как он нюхает тряпичную орхидею в пустой столовой. Лицо у него было такое удивленное, как у обманутого ребенка, сказала она, а ведь ему тридцать пять, не меньше.
Все цветы в холлах «Бриатико» искусственные, это довольно странно, так как в саду полно розовых кустов, но так уж повелось – хозяевам нравятся анилиновые краски и цветы, которые никогда не вянут. Ладно, Садовник, Giardinaio. Прозвище звучало неплохо, и я решила, что буду звать его так же. Тем более что имя у него чужестранное и застревает на языке. Номер бедняге дали насквозь продуваемый, продолжала Пулия, зевая в своем углу, знаешь такую комнату в мансарде, с окном, похожим на дырку в бублике? Тут она заснула, и я смогла спокойно подумать о ягодах жимолости.
Утром я поймала себя на том, что стала смотреть на «Бриатико» по-другому: как будто какая-то дверца в сплошной стене распахнулась, и я различила за ней комнаты, целые анфилады комнат, прежде не виденных. Ты приехала сюда не за этим, Петра, сказала я себе, стоя в ледяной умывальной для прислуги и разглядывая себя в зеркале. Я всегда по утрам мою руки с мылом, потому что во сне к пальцам прилипают scintille di morte – искры смерти, и такими руками нельзя трогать лицо, можно занести заразу.
Это место – проклятое, думала я, люди здесь хороши только с виду, и каждый из них может оказаться кровным врагом. Я пришла в умывальную на босу ногу, потому что форменные чулки мне еще не выдали, и через пару минут почувствовала, что каменный холод поднимается к самым коленям. Настоящий замковый пол, и холод средневековый. В широком пятнистом зеркале отражалась простушка в тюрбане из полотенца, вылитая служанка из колоний. Перестань думать о пианисте в зарослях щетинника и его смуглой спине с татуировкой, которую так и не удалось разглядеть. Он тоже может оказаться врагом. Он может оказаться тем, кто убил твоего брата. Может оказаться искрой смерти. Так же, как и любой другой.