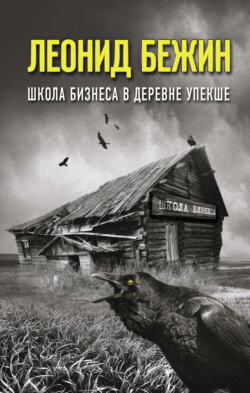Читать книгу Школа бизнеса в деревне Упекше - Леонид Бежин - Страница 21
Коронация и смерть фартового жигана
Глава девятая
Замолчано и забыто
ОглавлениеЛетом сорок первого, когда в палисадниках пышно и муторно цвели бегония и гортензия, осыпая вокруг себя лепестки, а Золотые шары, обламываясь, ложились головками на дорожки, прокатилась по небу самая страшная – адская – гроза. В полном согласии с Пактом о ненападении двинулась на нас жуткая стальная армада и пошла месить нашу землю, подминая под себя все живое.
То, что слепцы не желали знать, а зрячие предсказывали с точностью до даты – 22-го июня, сбылось. Но правоты предсказателей словно бы и не заметили, и не признали, и даже более того – правоту их замолчали и забыли: не они оказались в героях сводок и донесений. Никто пред ними не извинился за преступную беспечность – за то, что им не поверили и пред ними так сплоховали; никто не покаялся. И, конечно же, им не объявили благодарность перед строем и не представили к награде. И все потому, что те жили чем-то слишком далеким и не умели жить близким, а следовательно, даже в правоте своей оставались чужими.
Нет ни в чем вам благодати,
С счастием у вас разлад:
И прекрасны вы некстати,
И умны вы невпопад.
Некстати и невпопад – как это по-русски. У нас чего ни возьми – все невпопад, и в то же время попадание самое точное. Попадание в десятку. В яблочко.
Оставались же чужими, поскольку мыслили не как все, отличались, не совпадали, а главное, осмеливались считать себя умней командования, генералов, маршалов и самого Вождя, единственного из всех генералиссимуса, который втайне бывает прав даже тогда, когда явно ошибается. На то он и Вождь. Они же осмеливались считать. А кто так считает, тот не слишком отличается от врагов – врагов затаившихся, замаскированных.
Но лишь только их правота – правота зрячих перед слепыми – обнаружилась, возник непреодолимый соблазн их разоблачить, обличить, сорвать с них маски.
Сорвать, поскольку, обличая их, оправдывали себя.
Так я как историк объясняю себе то, что с началом войны отношение к Николаю переменилось. Наша коммуналка и прежде всего Ксения Андриановна, Матрена Ивановна и Слободан Деспот приняли его с прежней любовью, не дали ему почувствовать никакой перемены. Но для двора он перестал быть своим. Наш двор сразу разделился на своих и чужих, воров и честных. При этом наши честные не прочь были что-нибудь мимоходом украсть, а не наши – воры, напротив, могли проявить честность и благородство, поделиться последним и отдать самое дорогое.
Но это ничего не меняло. Воры – в отличие от наших дворовых мальчиков – не шли в военкоматы записываться на фронт и умирать, становиться навеки девятнадцатилетними. Воров и всю арбатскую подворотню не спасало больше то, что они любят Родину. Никто в их любовь теперь не верил.
Поэтому воровская сплоченность дрогнула. Воры взяли реванш уже после Победы, в 1946–1956 годах, когда вспыхнула война воров против сук. Ее так и называли: сучья война. Суки отличались от воров тем, что воевали на фронте, якшались с властью, выполняли приказы, получали ордена и медали. Но в сорок первом до этого было еще далеко; будущие суки еще ходили в героях, и Николай – при всем своем благородстве и готовности поделиться последним – имел несчастье по меркам нашего двора оказаться среди воров.
Более того, ему припомнили, что он – немец, не Егоров по отцу, а именно Браун по матери.
Раньше этому не придавали значения, и в нашем дворе все нации были вперемешку – русские, татары, украинцы, грузины и даже ассирийцы (в своих узких уличных кабинках они торговали гуталином, шнурками и зарабатывали чисткой обуви). Но теперь это значило всё – если не по части татар и грузин, то по части немцев уж точно.
Честные (свои) сплотились и выступили против воров (чужих), двор – против подворотни, и если раньше Николая любили как русского, то теперь возненавидели как фрица.
После, правда, стали различать немцев и фашистов, но тогда, в самом начале войны, любой немец был фрицем, а фриц – фашистом, будь он даже близкой родней Эрнста Тельмана.
Вот и Николай не избежал такой участи. При этом его перестали бояться и уважать за силу, ловкость и смелость – перестали, потому что были в сговоре и чувствовали дворовую спайку – поддержку друг друга.
Любое дворовое ничтожество могло свистнуть в два пальца вслед Николаю и бросить ему насмешливый вызов.
Да, мои бывшие соседи по коммуналке (их давно уже выселили с Арбата за окружную дорогу – на московскую Колыму) до сих пор рассказывают, что стоило Николаю выйти из дома, и он слышал за своей спиной:
– Эй, урка, а почему тебя отпустили из тюрьмы до срока?
Это изощрялся сопливый, шепелявый, стриженный под ноль, с выбитым зубом и вывороченной губой Федюня, которому Браун, не оборачиваясь, отрывисто бросал через плечо:
– Заткнись.
– Ну, ударь меня, ударь, – напрашивался, лез на рожон Федюня, которому все-таки хотелось заставить, чтобы к нему обернулись. – Посмотришь, что тогда будет.
– Много чести тебя бить. Еще в штаны наложишь.
– А тебе не много чести? Честных воров до срока не отпускают. Ты к честным не примазывайся.
– Вали отсюда, сопливый. – Николай еле сдерживался, и сжатые губы его белели.
– Это мой двор, а не твой. Ты здесь чужой. Поэтому сам канай, пока тебе не накостыляли.
Тут Николай слегка приостанавливался, делал вид, что не расслышал, и не без хитрости заходил с другого бока.
– А самокат тебе сделать на подшипниках? Могу и свинцовую биту для расшибалки выплавить. Хочешь?
– А что это ты вдруг?.. – Федюня не решался признаться в своем желании, подозревая какой-то подвох.
– Я сегодня добрый. Пользуйся.
– Ну, сделай… выплави…
– Вот ты и купился… Ха-ха! Дешево стоишь.
– Пошел ты со своей битой… Говори, почему тебя до срока отпустили? Почему в военкомат не идешь? Сдрейфил? Или слишком гордый?
Николай угадывал в этом вопросе влияние дворового агитпропа.
– А кто тебе велел об этом спросить? Двор?
– Ну, двор…
– Вот и скажи своему двору… Меня отпустили, потому что я кое-что знал.
– А что ты знал? Знал, когда начнется война?
– Когда рак на горе свистнет…
– Ты знал, потому что ты – Браун. Или даже Браунцвейг! Браунпупс! Ха-ха! Браунпупс!
– Браун или не Браун – причем здесь?..
– А притом, что ты немец! Немец! Иди к своим немцам! Иди к своему Адольфику! Выноси за ним ночной горшок! Лижи ему задницу!
Это был уже самый откровенный – наглый и беспардонный – агитпроп.
Иными словами, за такой базар Николай мог и отметелить, а то и порезать, но он сдерживался. Видно, на душе у него свербело из-за того, что он – Браун и что не идет в военкомат. Все-таки свербело и совесть его жгла и мучила, хотя он храбрился и вида не показывал.
Вида не показывал, и начищенные ботинки (все те же коричневые) на нем, как всегда, сияли, но все-таки… все-таки… прожигала насквозь… на то она и совесть.