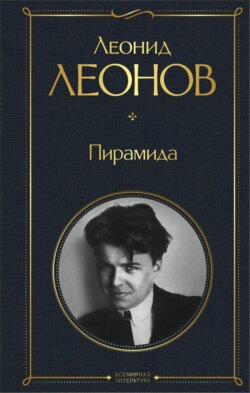Читать книгу Пирамида - Леонид Максимович Леонов, Леонид Леонов - Страница 12
Часть 1. Загадка
Глава XI
ОглавлениеСлучилось совершенно необычное: корифей попросил своего ученика посетить его на дому. Помимо доверия, приглашение означало и какую-то несомненную нужду в услуге студента. С понятным волнением Никанор отправился в берлогу.
Самые влиятельные стихии под видом случайностей и совпадений несли в тот раз Никанора на свидание с шефом. Они с ветерком мчали его по тротуарам метельного города, придерживали на остановках необходимые трамваи, помогали без увечий и штрафов пересекать магистральные потоки, пока не прибыл на место назначения.
Ведомственное здание Шатаницкого, уходившее шахтами в пламенную глубь земли и бессчетными этажами погруженное в небо, оставалось незримым для посторонних даже при ясной погоде. Обнаружить его можно было, лишь подойдя вплотную с риском провалиться в бездонный люк к дежурному на рога. Система охранительных средств действовала надежнее комендатуры с выдачей пропусков. Все наружные входы были зашиты досками по причине круглогодичного ремонта, видимо, свои проходили непосредственно сквозь стенку. И в поисках входного отверстия смельчаку приходилось впритирку протискиваться в сводчатых воротах, закупоренных застрявшим в снегу автофургоном.
Едва пробился во двор, как тотчас для него нашлась обитая железом запасная дверь, и сразу при входе налево лифт в углу. Не успел он вступить в него, как тесная кабина сама собой, рывками пометавшись в стороны, чтобы запутать ориентировку жертвы, сперва напропалую ринулась куда-то в глубь земного шара, пока предупреждающий зной не стал ощущаться в ногах, после чего чертова коробка уже безупречно доставила студента в поднебесную высоту на должный этаж, хотя личных часов у Никанора не было, но, судя по все возраставшему нетерпению, подъем длился почти четверть часа.
То был вполне обыкновенный, перенаселенный жильцами и с коридорной системой коммунальный дом. Саднящий зрение, слепительный лампион светил неведомо откуда, и вся служивая адская живность сидела дома, раз отовсюду сочился нетерпимый до зуда в мозгу свербящий звук ее вечерней деятельности – лаяла собака, звонил телефон, неправдоподобно громко плакал сомнительный младенец, пилили лобзиком стекло, сдвигали мебель, вбивали многодюймовые гвозди и, наконец, колоратурная певица с помощью радиолы звала любовника вернуться в ее объятья. Отовсюду стекавший звуковой мусор гулко проваливался в кромешное эхо лестничной клетки. Однако стоило Никанору добраться до апартамента с медной табличкой Шатаницкого, как шумовая суматоха сменилась мгновенно настороженной тишиной, студент, не успевший коснуться звонка, в ту же минуту различил два пристальных блеска сквозь почтовую прорезь в двери, которая беззвучно открылась, и за нею стоял улыбающийся корифей в домашней венгерке с бранденбурами, черной шапочке ученых на голове и в шлепанцах. С десяток самых причудливых масок проструилось в его лице, прежде чем Никанор опознал в нем своего учителя, приглашавшего войти в прихожую – с жестом на вешалку. И пока по длинному коридору шли в глубь квартиры, Шатаницкий впервые проговорился о своем заветном желании навестить студента на дому, точнее – в домике со ставнями в надежде на личный контакт с достопочтенным Финогеем Васильевичем, с коим дотоле имел беседу только во сне.
– Папашу моего зовут наоборот, Васильем Финогеичем, – не преминул поправить Никанор.
– Ах, какая жалость, никак не скажешь по виду… – невпопад пробормотал хозяин, с полупоклоном пропуская гостя, который не без опасливого смущенья за не по чину оказанный ему торжественный прием вступал на порог вселенского атеистического форпоста.
Каждая мелочь подтверждала институтскую репутацию квартирохозяина в качестве книжника, библиофила, анахорета и чудака с холостяцким укладом существования, вплоть до показной железной койки за ширмой в углу. Так опровергался обывательский анекдот, будто ложем для сна служит ему трехслойный магнит с титановой присадкой, специально изготовленный на секретном уральском заводе. Житейский аскетизм возмещался у него и тоже – не миражным ли – изобильным книжным богатством.
Синевато-магическое сиянье исходило в потемках от вплотную заставленных полок, декоративно заплетенных густой паутиной в проходах, – наглядное свидетельство ничьих посещений. Обширная память владельца, как раз вмещавшая все случившееся некогда, еще по ту сторону времени, не нуждалась в справках и уточненьях, ибо вдохновенное безумие драгоценных фолиантов было им же нашептано в давние бессонные ночи. Мемориально-архивный характер собрания тем и объяснялся, наверно, что у обреченного на пожизненное пребыванье во мраке, в котором вязнет и солнце, имеются свято хранимые воспоминанья об утраченном предвечном свете. Впрочем, помимо первоклассных, полностью забытых ныне жемчужин потаенного знанья, надежно защищенного от vulgus profanum личиной еретического мракобесия и опиума для простаков, всяких инкунабул и адским прозреньем восстановленных палимсестов эсхатологического откровенья, среди бесценных рукописей классиков научного оккультизма, украшенных дарственными надписями Аполлония, Агриппы и не менее легендарного Элифаса Леви, находилась энциклопедическая Biblioteca rabbinica – наиболее обстоятельный свод самых ранних домыслов о происхождении вещественного мира, и, судя по зиянию во втором ряду одинаковых фолиантов, там недоставало одного. Не он ли, распахнутый посередине, красовался у корифея на самом виду? То был как раз седьмой том Biblioteca rabbinica с предысторией якобы на заре мира случившегося знаменитого небесного раскола.
Примечательно, что в ту обостренную пору изнурительных повинностей, хлебных очередей, тайных казней и подпольных козней, именно эта давно отжитая сказка уединенно находилась на рабочем столе у генерального излучателя никем пока не подозреваемых идей, составлявших истинное содержание века и сего повествования.
– Ну-с, рассказывайте, Шамин, как там у вас, на краю света в Старо-Федосееве? Побывал ли у вас причудливый незнакомец, выдающий себя за пришельца из заоблачных краев? Лично у меня есть подозренье, не он ли ради первого знакомства заставил вас полетать над нашей любимой столицей, пока воплощался на памятной для вас лыжне? Какие ваши первые впечатления от него?
Кстати, учитывая некоторые природные свойства своего декана, проницательный Никанор уже разгадал, кто на самом деле устроил ему этот каверзный полет над столицей.
– Покамест впечатления благоприятные, учитель, – сквозь зубы процедил студент, осторожно листая книгу и время от времени, по обычаю слепых, касаясь пальцем латинской строки, чтобы хоть так освоить заключенное в ней интеллектуальное лакомство, недоступное молодому поколению на немом для него языке.
– Поинтересуйтесь им поближе, он достоин в будущем кисти такого многообещающего мастера астрального портрета, судя по черновым записям, которые вы успели сделать о моей особе, хотя внешне личность его представляется довольно скромной.
– Он почему-то называет себя ангелом.
– А вы не попытались уточнить – почему? Если люди додумываются, как они врисованы в математические законы бытия, тем в большей степени это сомнение должны испытывать ангелы. Сам дьявол томится догадкою, не есть ли он вместе со всем арсеналом зла магнитным завихрением пустоты? Здесь весьма пригодилось бы утверждение виднейшего специалиста по этой части Василия Великого, что ангелы, как и демоны, страдают от мук огня. Примат боли сильнее, нежели радость бытия. Никто не принуждает вас при первой встрече прижигать его спичкой, как бы прикуривая, но, дорогой друг, во избежание атрофии надо давать работу и голове!
– Смолоду не пью и не курю, учитель, – задумчиво, словно сдвигая гору мыслей, отвечал Никанор.
– А не замечается ли у вашего Дымкова странная манера щуриться, как бы от неуменья войти, приспособиться, встроиться в нашу действительность?
– Есть немножко… Наверно, с непривычки увязать воедино уйму составляющих нас физических законов, – с видом столь же заумной учености сказал студент. – Птицы и насекомые замечают грозящую им опасность, лишь выдавшую себя непроизвольным движением…
– Браво, мой юный друг… совсем близко, даже глубоко, но снова мимо. Иногда осознать мешающее быть куда трудней, чем отыскать средство в преодолении помехи, но еще сложнее нащупать его источник. Умная собака способна различить часы в руках хозяина, гениальная подметит в них взаимозависимое движение колес, но как далеко отсюда до нашего пониманья времени, не так ли?
Здесь корифей сделал небольшую передышку, чтоб продолжить свою псевдонаучную галиматью.
– Теперь вы понимаете, Шамин, что все сущее является единым, слитным и никогда – конечным процессом, где одновременно осуществляются тысячи физических законов, всевозможных диффузий, рефракций и – чего еще там?.. Ну, скажем, мы плывем там, не замечая друг друга, сквозь встречное и встречное – сквозь нас. Если такой поток рассечь экраном бешено сопрягающихся магнитных полей, на них тотчас возникнут проекции действующих сил в виде беспокойных, мучительно нечто напоминающих символов, в которых вряд ли с первого взгляда распознаем самих себя. Крайняя у них там, в непроглядных глубинах, изреженность вещества даже в цепенящих условиях абсолютного нуля не исключает ускользающего от наших наблюдений, пускай приторможенного взаимодействия рассеянных в пространстве частиц, что позволяет говорить об особой неторопливой химии горних миров, способных создавать довольно грозные явления, в том числе гигантские фантомы, сотканные из того же мятущегося вещества с самыми различными характеристиками материальности – в зависимости от плотности среды и гравитационных натяжений неслыханной величины и кое-чего другого. Вполне аксиоматично, что где кончается один мир, должен начинаться очередной за ним, чтоб не получилось какой-либо запретной иррациональности… Правда, населяющие большой космос мыслящие макросущества отличаются замедленной реакцией, чем, в частности, и объясняется досадная нерасторопность небесных покровителей в отношении бед земных. Самый шаг времени у них другой, и пока соберутся на призыв страждущей малютки, обстановка успевает измениться много раз, вплоть до адреса самой планеты… Их винить нельзя, ибо по своей обширной емкости они и мысли не допускают порой о чьем-то ничтожном бытии, как ни обидно это для нашего достоинства… Но ведь и мы им платим тем же! Поэтому, когда они открывают нас, мы для них мошкара вселенская вкруг тусклого фонаря местного значенья, что поминутно врывается сюда из мглы, чтобы тотчас с воплем прощальной тоски или вздохом облегченья вернуться в материнское лоно. Свяжите сказанное воедино, и вы поймете, чего я добиваюсь.
– Жадно внимаю вам, учитель, – с одухотворенным лицом, как бы испивая мед мудрости из уст его, отвечал Никанор.
– Таким образом, вступающему к нам с того мглистого берега и наделенному молниеносным постиженьем всех процессов, происходящих в их собственной среде, наше с вами бытие должно представляться им вьюгой обезумевшего вещества, хаосом ошибающихся противоречий и прерывистых мерцаний – на фоне таких же искрящихся странностей и гонимых императивными квантами чего-то, где втугую сфокусированы зов, воля и приказ… Но в конечном итоге, что именно вертит жернова, впрягается в парус, гонит морскую зыбь, песчаную пустыню вздымает до небес – ветер, воздух, солнце или некто, завершающий эту лестницу причин и сам не знающий себе причины? Следует допустить, что если бы ожидаемый нами пришелец оттуда действительно принадлежал к разряду ангелов, наделенных универсальным зрением без способности различить в вихре физических законов врисованные в них эфемерные призраки людские, то по природе своей избавленный от тяготных поисков хлеба насущного, смертельных схваток за место под солнцем, сладостных мук, связанных с продлением вида, с какой пристальностью гнева, содроганья или гадливой неприязнью щурился бы он в попытке постичь смысловое поведенье людей в корчах труда, любви или битвы, не так ли? Тогда кто он, наш завтрашний Дымков: заблудившийся турист, иномирный соглядатай (какого проницательный коллега заподозрил в моей особе) или тот, где-то в исламских сказаниях упоминаемый мифический ангел с расстоянием между очами восемьдесят тысяч дней пути? Кстати, я уже зондировал кое-где возможность вашей персональной командировки в мечту, священную цель ученых… если не забыли данное вами согласие в том беглом у меня разговоре, который я неосторожно, в целях конспирации, перевел в гротескный ключ ввиду постороннего присутствия. Не скрою – первые миссионерские шаги на чужой территории сопряжены с риском мученичества, и будем надеяться, что первые, неизбежные в таком предприятии могилы космических первопроходцев наконец-то сольют враждующих землян в единую семью… и вообще терновый венец лучше лавров и диамантов украшает чело гения, не так ли, юноша? Простите мне возрастную чувствительность, но вот уже близится предназначенный вечер поколений… И выпуская ученика на столбовую дорогу, старик смотрит вослед ему затуманенным взором и тихонько завидует вдогонку! – изображая ностальгическую тоску, произнес корифей, украдкой взглянул на студента с одновременным вопросом: – Бреднями своими не утомил я вас?
– Наоборот, в самый раз, учитель… – поторопился успокоить его Никанор, не отрывая глаз от раскрытого фолианта.
– Помнится, мы остановились на том, что никакого небесного мятежа не было и в помине, а просто среди высшего ангельства распространились слухи о предстоящем переводе под начало неслыханного фаворита. Естественно, по чину своему, главный маршал сил небесных отправился лично познакомиться с претендентом на его место: кто таков и в чем его воинские преимущества? Встреча их произошла при пещерной нише под навесом скалы в защиту от полуденного зноя или непогоды. Только что сработанный человек лежал врастяжку на плоском камне, ничем не прикрытый, во всеоружии жизни, творчества и размножения. Причем неизвестно, сколько долгих мигов протекло до момента, когда животворящая искра благодати соскочила с Его повелевающего перста на встречно протянутую руку пробуждающегося Адама – в точности литургийный акт сей изображен на плафоне Сикстинской капеллы. Наличие рукоделья на рабочем столе и вопросительный взор незримо присутствующего Мастера так убедительно подтверждали предстоящую отставку, что воспламенившийся маршал сил небесных не удержался от встречного вопроса, ведущего к небесному расколу. То была роковая фраза, дошедшая к нам сюда в известном апокрифе Еноха: «Как мог Ты созданных из огня подчинить созданиям из глины?». К сожалению, упрек незаслуженной обиды звучал там слышнее тайного чаяния утраченной близости, что и было воспринято как оскал зубовный, то есть прямая улика признания в измене. Затем послышался сейсмический гул под ногами, как если бы горы раздвигались по сторонам, образуя гигантскую дыру – бездонный мрак, куда, слипаясь на лету и врассыпную за миг единый успела рухнуть воздушная громада. Так началась наша ссылка в никем пока не заселенную глушь. Если вначале некоторые с непривычки боялись наткнуться на спрятанное впотьмах коварство, то час спустя все томились надеждой разбиться вчистую о любую впереди прорву физического для бессмертных небытия, куда изгонял Сатанаила свежий даровитый генерал. Такого рода почетный конвой сопровождал нас до переломного момента, ибо последний миллион световых лет мы уже своими силами побыстрей понеслись в отведенную нам твердь, чтобы наконец начать обратную карьеру. Кто-то, подобно матросу на мачте Колумбова корабля, искал еще далекую, но уже приближавшуюся твердь и неслышно прошептал деревянными губами: «Земля, Земля», и тотчас остальные, жадно и поневоле с ходу разбившись о нее, превратились в свою диалектически выраженную противоположность.
По бессмертию нашему ничего не хотелось, кроме вечного усыпления. Я огляделся, прежде чем сомкнуть опаленные веки. Всюду вокруг суетились оплавленные обломки спутников моих, навечно породненных общей бедою, сплющенные друг о дружку, с порванными сухожильями или стрельчатым крылом соседа пробитые насквозь. Затем наступила длительная полубеспамятная агония без ее благодетельного финиша. Долголетие библейских праотцев указывает на емкость тогдашнего времени.
Когда же спустя бессчетный срок ужасный свист бездны затих в ушах, в сознание мое пробился умиротворенный мелодичный звук. Капель из трех точных и звучных нот оглашала потемки. Нет ничего целительней для падших, чем музыка воды. Бессонная труженица милосердно бежала сквозь нас, студила, нежила и залечивала наши увечья. Мы стали нехороши собою, и сам Отец не опознал бы в нас тех гордых и светлых, какими были раньше. Отныне любой жест милости или прощения лишь оскорбил бы нашу страшную и сладкую печаль. Мне показалась уютной доставшаяся нам дыра, которая зовется теперь Постоенской Ямой, близ Любляны. Раз в год я навещаю это место, чтобы, отбившись от толпы туристов, постучаться к иному из еще не проснувшихся в его полупрозрачный саркофаг…
И хотя Никанор знал истинное происхождение карстовых пещер, он счел необходимым выразить рассказчику сочувствие за все пережитое.
– На вашем месте я написал бы подробную книгу о своей биографии, – тоном наивного восхищения подстегнул Никанор, – чтобы критики не подумали, что все здесь одна лишь игра воображения.
– Да, но все воображаемое является вариантом избегнутой действительности, – с гримасой раздраженья обронил корифей. – Я лежал на спине, и сквозь толщу доломитового склона надо мною зигзагами просматривалась даль пройденного пути. Там, во тьме ночной, сияли звезды, которых не было раньше, ибо никто не нуждался в них – верный признак, что Всевышний придумал качественно новый мир для своих очередных фаворитов.
Внезапно в перекличку капель вплелся незнакомый, снаружи сочившийся звук. То было восклицание детской благодарности изобретателю Вселенной за его трогательное старание обеспечить нынешним любимцам радость существованья в ней. Судьба повелела мне стать не только очевидцем, но и участником великой перемены. Ревнивое нетерпенье повидать свою смену на новоселье помогло мне не без некоторой утраты благообразия пробиться на волю из каменной скорлупы. Не в силах встать на ноги после столь продолжительной лежки, я ползком двинулся к единственной теперь цели. И добираясь к ней сквозь скалистые фильеры горных ущелий, настолько попривык и обточился на их кремнистой щебенке, что к моменту прибытия на место действия среди бесплодных камней Междуречья довольно бойко, уже в облике заправского змия струился в высокой цветущей траве, знаменовавшей близость рая, заповедного оазиса с его первобытным комфортом. Показательно, что никто не задержал меня, когда я кое-как перебирался туда через пограничный ров и безошибочным чутьем отыскал предназначенное мне древо и, дважды охлестнувшись по стволу, вскинулся в развилку сучьев, изготовившись к исполнению возложенной на меня обязанности. Вскоре из-за кулисы непроходных джунглей показалось все наличное, покамест, человечество: рыжий верзила об руку с супругой в первозданной наготе. Будущие хозяева знакомились со своей усадьбой. Их сопровождала приданная им в забаву фауна, похожая на глиняные простонародные игрушки, – те и другие еще со свежими отпечатками пальцев ваятеля на боках, которые покрупнее и менее просохшие – слегка дымились на солнечном припеке. Жирафы держались на заднем плане, чтобы не заслонять от своих собратьев зрелище чудесных диковинок. Все кругом вызывало удивление пополам с испугом, и не было ни одного растеньица, чтобы под листочком у него не пряталась какая-то нарядная козявка или еще помельче пестрый цветущий пустячок. Кстати, судя по единому техническому замыслу все твари были черновиками будущего человека в разных фазах работы – от пробы пера на полях мирозданья до заключительной модели с интеллектом, рассчитанным максимум на возношение хвалы создателю, избавившему ее от бремени мышления. Причем не слышались среди них ни писк и лай, ни рык или блеянье: в начальной стадии все общались пока на схожем диалекте базарных свистулек, и прав все тот же таинственный Синкелл, оспаривая мнение Иосифа Флавия, будто змий говорил с Евой на человечьем языке.
Дело происходило на полянке вблизи небольшого озерца, и пока мимоходом будущий царь природы залюбовался своим отраженьем в голубой воде, женщина вдруг направилась ко мне, видимо, привлеченная моим необычным телосложением. На ее вопрос – что поделываю тут? – я назвался местным садовником и, объяснив ей заповедную неприкосновенность охраняемой яблони во избежание запретнейших потом мечтаний, предложил ей проверить, так ли оно в действительности. Наугад сорвав ближайшее и поморщившись, передала надкушенное яблоко супругу, который проглотил оное в один прием, невзирая на кислятину…
Показательно, что рассказом этим Шатаницкий как бы отрекался от своей нашумевшей книги Разоблаченная космистика, где он, разоблачая мистику всех времен и народов с гипнотизмом во главе и укрываясь от атеизма, блистательно опровергнул собственное существованье как атавистический предрассудок. По всей видимости, потребность поделиться с кем-то воспоминаньем о прошлом, хотя бы перед столь малочисленной аудиторией, и роль очевидца, даже участника библейских событий была ему дороже, нежели провинциальная репутация корифея позитивных наук. Причем то и дело сквозившая ирония над самим собою явно служила ему прикрытием неуместной для падшего ангела ностальгической печали, несмотря на постыдное, пусть жалостью диктуемое совращение юной четы праотцов, ибо какая участь навечно ожидала их в джунглях месопотамского эдема, если бы не грехопаденье! Тогда и был произнесен общеизвестный приговор проклятья, обрекавший людей на кочевое скитанье по безбрежной целине без топора, сохи и прялки и дальше в туман зловещей неизвестности, в котором сегодня просматриваются черты финала, чреватого уймой для человечества непоправимых бед.
– В раю, как всегда, полдень и отменная погода, – теперь уже скорее для себя, чем для гостя вспоминал Шатаницкий. – За его околицей нас встретили сумерки и непогода. По безрукости мне стоило немало труда разжечь костер для дрожавших спутников. Та первая, на пограничной канаве проведенная, долгая бездомная ночь породнила нас. В слезах, голее зверя озирались они на пороге бескрайнего мрака, который им предстояло населить духом своим. И мы посильно помогали им освоиться в мирозданье, потому что мыслящему нельзя селиться в большом доме, не наполнив его весь собою до краев. И оттого, что люди для нас не просто легкая зыбь вещества на пляшущей занавеске времени, мы не растлевали их, когда, не требуя мольбы и ладана, изъясняли им наивную звездную пиротехнику, рассчитанную на младенческое восхищенье дикаря… и вы знаете, какая нас ждала награда!? Пока не сменится оскоминой хмель победы, долгом летописцев почитается на всех памятных документах выкалывать глаза побежденным, которые молчат с кляпом во рту, с мечом в груди. Все годится для их очерненья, потому что прошлое выдерживает любую клевету. Чем? Безумием гнева и ненависти благочестия диктовался бытующий в народе образ опального ангела, будто сидящий на престоле кромешной тьмы взимает с приходящих к нему дань в размере одной дохлой мыши.
Прикосновенье к огню немыслимо без ожога, и толчком к цивилизации послужило страданье. Подобно тому, как драгоценные камни вызревают в бешеном вскипанье вещества, точно так же из сгустков боли выточены наиболее долговечные трагедии, реквиемы, этапные формулы и прочие лакомства ума. Нет у нас лучшей утехи, чем под вечерок, склонясь лицом, созерцать копошенье человеческого планктона, как они там в мириады усиков, жгутиков, окровавленных рук осваивают плотную мглу… и как потом, уже бездыханные и простреленные, книжными призраками бегут сквозь века с призывом к неродившимся на штурм мироздания, чтоб разбиться о манящее зарево впереди… что почти предугадал ваш Матвей Петрович, ради которого и пригласил я вас сегодня.
Все это было до щекотки странно слушать Никанору. Как и многое другое, сказанное здесь походило на попытку Шатаницкого подправить через студента в глазах мировой общественности сложившуюся репутацию адского владыки как матерого ненавистника людей ввиду близкого, по обывательской молве, воцарения на троне антихриста.
– У меня имеются сведения, – доверительно продолжал Шатаницкий, – что теми же раздумьями о грядущем мучается и оригинальный мыслитель нашего времени, вышеупомянутый Лоскутов, почти разгадавший тайну появления людей. Его открытие в корне опровергает как теорию древних – будто органика завелась в настое гнилых опилок, так и более позднюю, столь же глубокую – о симпатическом влечении атомов и молекул объединяться в микроскопические организмы с перспективным выходом на трилобит, рыбу, обезьяну, Адама… вплоть до великого вождя, который взялся возглавить скоростной, через голову поколений, переброс человечества, и уже без интеллектуальных излишеств, следовательно, без биологического износа, то есть в жизнь бесконечную, чем достигается земное и, как показывают вкрапления всяких букашек в кусках миллионолетнего янтаря, гарантированное бессмертие уже не отдельной особи, а всего вида в его стандартном насекомом существованье.
Сложившаяся у вашего Матвея Петровича нынешняя надкосмическая ситуация настолько совпадает с моими опасеньями, что возникает необходимость заблаговременно совместно обсудить очевидные отсюда роковые последствия для человечества. Вот я и пригласил вас спросить – не возьмете ли на себя… – начал он и оборвал на полуфразе.
Вдруг из-за портьерки позади у них послышались неприличные звуки: как бывает у некоторых тучных особ спросонья – сопенье, чавканье и наконец сопровождаемый стеклянным дребезгом грохот упавшего железного предмета. Это заставило хозяина привстать с вопросительным ожиданьем еще чего-то. Когда же последовало глухое чертыханье на неизвестном диалекте, корифей яростно рванулся в соседнее помещенье на шум, жестом наказав студенту оставаться на месте…
За портьерой в стекле книжных шкафов отражалась внутренность комнаты с нарочито-показным реквизитом классического астролога – внушительный бронзовый глобус ночного неба с нарисованными на нем символами созвездий, непонятной конструкции и неизвестно куда нацеленное телескопическое устройство и в золоченой раме, как оказалось, лишь магам известная, иероглифическая монада средневекового монаха Джона Ди и разная мудреная мелочь для мистической достоверности фальшака, и наконец, на диване в углу громоздилось в лиловато-лоснящемся балахоне до пят вовсе фантастическое существо, кто-то из ближайших сотрудников корифея, приглашенный сюда на расправу. На него-то и устремился хозяин. Однако причиной его раздражения был не валявшийся на полу разбившийся торшерный светильник, который страшилище, потянувшись в полудремоте, задело копытом, а упомянутый мельком дьякон Аблаев, что позволило студенту разгадать подоплеку происшествия. Мощными пассами вжимая провинившееся исчадие ада в глубь дивана, он вдруг, не прикасаясь и без повреждения мебели, проткнул его сквозь стенку наружу, и Никанор правильно расценил устроенный для него балаган, хотя бы потому, что падение с тысячеэтажной высоты и в зимнюю стужу не сулило Минотавру простуды и увечья.
– Ложная тревога… кошка лампу уронила… – как ни в чем не бывало пояснил вернувшийся к гостю хозяин, искоса следя за выражением его лица – знает ли. – Так на чем мы остановились? Да, речь шла о вашем Матвее Петровиче, которому, намекну по секрету, история готовит поистине всемирно-историческую роль. Так вот по единству наших тревожных с ним предчувствий грозного и совсем близкого теперь кризиса мироздания в целом, я и пригласил вас спросить tete-â-tete – не возьметесь ли вы ради общевселенского блага устроить наше обоюдо-желательное знакомство, поскольку и сам священник весьма интересовался моей персоной?
– Вас не смущает, что нынче по уходе из сана он лишь скромный мастеровой сапожного дела без особой философской подоплеки, – озадаченный таким напором, в чем-то усомнился Никанор.
– О, сегодня подоплека эта у каждого таится на уме. У нас найдется, чем ее к жизни пробудить… Однако обывательская молва навечно омрачила имя мое каверзным ореолом… так что, ввиду вполне возможных протокольных препятствий к нашему общению, выбор места и времени встречи предоставляется на его усмотренье. Передайте ему, что он нашел бы во мне корректного, почтительного собеседника. И разумеется, никакого сабантуя: пища мудрых не та, что в уста, а что исходит из уст оных. Как вы понимаете, при моей служебной загрузке и чтобы не торопиться, меня устроил бы выходной день, лучше всего первомайский праздник… – сказал хозяин и напрасно ждал ответа на свои бессвязные откровения, которые Никанор воспринимал как словесную пасту для заполнения пауз в разговорной речи, особенно когда беседа ведется ни о чем.
Естественно, корифей правильно истолковал ироническую усмешку своего биографа:
– Теперь по старой дружбе, коллега, раскройте смысл загадочной улыбки во всю ширь лица, придающий дополнительный шарм вашему облику, – сквозь зубы прибавил профессор, уставясь в его лоб под нависшей сверху шевелюрой.
В ответ Никанор поблагодарил его кротко за недвусмысленный комплимент. По счастью, аудиенция подошла к концу. К тому часу благоговение неофита сменилось дерзким сомнением в достоверности поначалу пленившей его музейной старины с ее невероятной сохранностью, словно вся изготовлена была накануне. И объяснялось это не столько обычной эфемерностью чудес, образуемых на куда меньшем количестве координат, чем любая реальность, с той небрежной поспешностью, с какой бессмертные создают их муляжи для профанов, неспособных подметить отсутствие такого наглядного в данном случае сертификата древности как паутина времени.
Между прочим, студент без гарантии успеха обещал наставнику при ближайшей оказии разведать у Матвея Петровича о его согласии побеседовать на главную тему текущей действительности, правда, предприятие одинаково щекотливо для обеих сторон – как для верующего, пусть бывшего священника, так и для выдающегося, партийным доверием облеченного декана в смысле его политической репутации, причем напомнил общеизвестный альянс покойного наркома Луначарского и тогдашнего живоцерковного митрополита Введенского, которые, как утверждает столичная молва, сразу после своих публичных богословских диспутов в Политехнической аудитории чуть не в обнимку и на извозчике устремлялись в ресторацию для продолжения беседы уже в уютной обстановке с умеренным винопитием. Разговор закончился на лестничной площадке, и не успел Никанор уже из лифта произнести для солидности нечто остроумственное напоследок, как дверцы сомкнулись, и кабина бешено помчалась вниз со срамным гулом воды, извергаемой из туалетного бака. На сей раз, видимо, для удобства пассажира выплеснули прямо на улицу, безлюдную теперь: тем временем к сумеркам ясную погоду сменил густой, с ветерком снегопад.
Скоростной полминутный спуск обошелся без дурных последствий, если не считать гадкой тошноты и легкой одури, которая, как всегда у Никанора, уступила место принципиальным раздумьям о случившемся. В частности, зачем понадобилось Шатаницкому приглашать его в поднебесный к себе апартамент, полный всяких трюков и бутафорских диковин с апокалиптическим быком во главе, – вряд ли с целью угостить безобидного парня экзотическим Еноховым мифом о предвечной ссоре небесного начальства возле покамест глиняного первочеловека или еще более несуразным библейским анекдотом о его же, чуть позже и в райском саду, грехопаденье при содействии супруги… И тут по совокупности изложенных обстоятельств пришел к наиболее правдоподобному выводу, что, возможно, из амбициозных соображений стремясь подправить положенный ему потусторонний, по мере привыкания заметно гаснувший ореол в глазах будущего биографа, корифей решился не только блеснуть, но и малость припугнуть беднягу своим величием в пределах его воображения. Вдруг поддавшись смутному ощущению, будто кто-то из поднебесья, с тысячного этажа, смотрит ему вдогонку, он, суеверно обернувшись, вскинул голову тому навстречу, но как ни всматривался в пестрящую метельную мглу над собою, машинально смахивая талую влагу с лица, так и не усмотрел ничего: ни огня в окне, ни самого зданья, словно сгинуло вчистую, как и следовало ожидать от обычного гипнотического наваждения.
Удобная оказия исполнить порученье выпала уже на следующий вечер после ужина под свежим впечатлением разговора, и почти в том же словесном оформлении, как было выполнено накануне.
– На днях декан нашего факультета, шеф мой, вами очень интересовался, – как бы ненароком, с недомолвкой обронил Никанор. – Ищет случая познакомиться с вами.
– Да ты очумел, видать! – вскинулся на него батюшка. – Ай не слыхал, кто он на самом деле есть?
– Что касается меня, то я, находясь при нем второй год, никаких наличных рогов или хвоста не замечал. Это все слухи обывательские, Матвей Петрович, суеверье одно.
– Так это бесовские регалии у мелкой нечисти бывают, а бывалошные министры при себе не имели полицейскую шашку, которая низшим чинам полагалась для постоянного ношения и в народе селедкой именовалась.
– Неужели вы в мыслях допускаете, чтобы советская власть доверила воспитание молодежи выходцу из преисподни?..
– Так почему не опровергает клевету такую?
– Ему лестно и, видимо, на этой основе рвется к высшему академическому званию. Да чем ее, такую репутацию, опровергнуть? Нынче категория нечистый дух – такая же редкость, как гений – понятие социально-оскорбительное для большинства. Вроде объявишь публично: извините, товарищи, я не гений. А тебе посмеются в глаза – отколь ты возомнил такое. Мы и не думали на тебя, голубчик, что ты гений. Вот и получается двойной конфуз, Матвей Петрович! Кстати, очень высоко он о вас отзывается, как о мыслителе нашего времени…
– Да зачем же я ему вдруг понадобился? – испугавшись подобного сходства, смущенно пожался поп.
– А чтоб совместно обсудить одну сверхидейку, которая в самом зародыше пока.
– Эго какую еще там сверхидейку, он не приоткрыл? – глубже увязая в западне, уже вполсилы сопротивлялся батюшка.
– А ту самую, что у вас на уме и которую во избежанье огласки он подтвердит вам наедине. Намекнул только, что ввиду секретности и не откладывая в долгий ящик, учинит ваше с ним свиданье Первого мая, когда все сыскное вниманье наблюдателей будет отвлечено в праздничную сторону. Кстати, крупнейшие праведники древности не гнушались вступать в философские поединки с бесами для посрамления оных в их гадком существе. Ну и каково будет ваше решение?
– Вот уж не знаю, не знаю, щекотно как-то… – оглаживая себе колени, растерянно бормотал Матвей, и уже соглашаясь принять у себя на дому исконного, по апостолу, врага рода человеческого, то есть совершить даже и для бывшего иерея чудовищный акт, тем не менее обязательный, если толковать его в духе высшего пастырского служения. В зловещем нарастанье общественных потрясений под прикрытием пресловутой исторической необходимости явно ощущалась чья-то тайная могущественная воля.