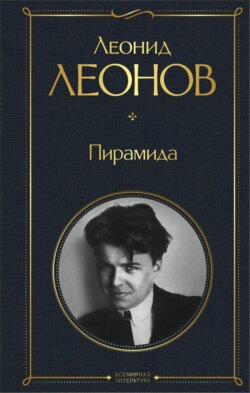Читать книгу Пирамида - Леонид Максимович Леонов, Леонид Леонов - Страница 6
Часть 1. Загадка
Глава V
ОглавлениеСлишком приятельское приветствие сомнительного корифея бросает дурную тень на человека вполне достойного, кабы не его богословское мудрование о вещах, запретных для ума, и еще надлежит заблаговременно изложить кое-какие сведенья о бывшем священнике Матвее Петровиче Лоскутове, на судьбе которого построен ключевой миф о нынешней верховной смуте.
В сущности, жизнеописание бывшего священника целиком уместилось бы в полстранички. Добрые и щедрые наставники, как бы передавая из рук в руки, заботой и лаской пестовали его убогое детство. Еще в школе местный учитель, чахоточный мечтатель, отбывавший там царскую ссылку, заронил в кроткого паренька искру подвига во имя некой общечеловеческой цели, а после смерти матери мастеровитый шорник, по-соседски приютивший сироту, обучил его всем статьям своего уменья – от сложной архитектуры русского хомута до всепогодной крестьянской обувки, что впоследствии и пригодилось о. Матвею, когда под влиянием обстоятельств вынужден был сменить пастырское служение на сапожное ремесло. И наконец, епархиальный архиерей, на выпускном экзамене тронутый поэтическим, без выхода из канонических рамок, толкованием столь туманного догмата, как тринитарность, не только довел даровитого юношу до семинарии, но и по уходе на покой, когда тот по традиции занял унаследованный от тестя скромный приход, не оставлял своего любимца без покровительства. Не он ли попозже, на основе своих служебных связей исхлопотал будущему ересиарху беспримерный дотоле перевод из вятской глуши прямиком на скромное, но еще доходное подмосковное кладбище? Но версия эта маловероятна в общественных условиях того периода, когда синодальное ведомство надолго утратило былую значимость.
Открытие Бога, ставшее призванием отца Матвея, состоялось в раннем возрасте, когда по дороге из лесу домой его застала в поле такая праздничная Ильинская гроза. Молнии с огненным треском раздирали небо над головой, а ливневая влага, ручьем стекавшая под холстинковой рубахой, придавала душе и телу жуткий трепет посвящения в тайность, а все вместе становилось восторженным чудом, облекавшим парнишку с головы до пят.
В избе у шорника хранилась старопечатная, именуемая патерик, книга с жизнеописаниями отшельников, иерархов и священномучеников российских. В зимние вечера, при коптилке, ведя пальцем по строкам, питомец читал ее слепнущему благодетелю, который немигающим взором смотрел в огонь, умиленный чужою судьбою, не доставшейся ему самому. Юного грамотея тоже манили необычайные приключения святых героев, в особенности их поединки с нечистой силой, как у Иоанна Многострадального, по шею закопавшего себя в землю, и дикая прелесть уединенного жития в таежной землянке, куда слетаются окрестные птахи навестить праведника и охромевший зверь лапой стучится в оконце на предмет удаления занозы. В семинарские годы он помышлял о миссионерстве на северной окраине, чтобы, подобно Иннокентию Камчатскому, в утлом челноке пробираясь среди смыкающихся льдов, нести слово Божье отдаленным алеутам. В памяти юноши еще не угасло прощальное напутствие чахоточного учителя следовать примеру именитых предшественников прошлого века, тоже бывших семинаристов, беззаветно потрудившихся на ниве очевидного теперь разрушения исторической России. Выходец из деревенской нищеты, о. Матвей одно время испытывал горячие симпатии к революции бедных, и сам был не прочь принять в ней посильное участие. Тем паче прельщала русского батюшку новизна, преобразующая человечество наподобие всемирной, во Христе, образцовой пасеки, причем общественная устойчивость диктовалась уже не головоломным сплетением обоюдоострых истин, а тем социальным инстинктом улья, где все одинакие, и оттого некому завидовать, нечего красть и незачем убивать ближнего на баррикаде… покуда на собственном опыте не убедился, что означенная, медок творящая пчелка трудовая, не забывающая о вощине для свечи пасхальной, ныне насильно, во имя какой-то другой, не понятной ему цели впрягается в ее земной насекомый интерес с запретом мысленно всматриваться в небо, что и служило ему самому наглядным доказательством своей политической неграмотности.
С той поры героические помыслы его сменились преждевременным стариковским влечением к мирной жизни, чтобы, сидя в кругу многодетной семьи на террасе уютного домика с видом на речку и во благовременье вкушая вечерний чаек, слушать мелодичную русскую песню возвращающихся с покоса поселян либо, еще краше, любоваться деятельностью местных, своего прихода рыбарей, как они дружно и воздерживаясь от возгласов крестьянского просторечия, тянут на берег свои мрежи, полные живого, трепещущего серебра.
Казалось бы, всего тут с избытком наговорено про бывшего попа Матвея, однако не заключался ли коренной просчет эпохи именно в упрощенном подходе к человеку на основе анкетной биографии, которая есть не более чем телесный экстерьер, без заглядки в тайники подсознанья, где под опекой рассудка ютятся в тесноте совесть и вера. Словом этим обозначалось у о. Матвея непрестанное, сродни таланту, ощущенье благодетельного, над собою, присутствия надмирного и всевластного существа, отвергаемого наукой по невозможности приручить его в пробирке, in vitro, для подключения к коммунальному хозяйству на манер электричества. Ввиду масштабной несовместимости сторон для непосредственного общения человека с божеством, по ничтожеству одного и величию другого, детская вера сводилась к готовности при жизни пролежать песчинкой на безвестной вселенской тропке в ожидании – когда однажды, при обходе звездных владений Господь коснется его своей пречистою стопой. Отнюдь не чудо требовалось отроку; на пути к будущему призванью в раннем возрасте усваивается стариковская мудрость, что постоянным пребываньем среди дивных творений природы притупляется наше восприятие их божественной прелести. Также рано понял он, что и всякая драгоценность в потемках музейной витрины сверкнет не раньше, чем высветит ее там и прогреет благоговейное восхищенье созерцателя. Простонародная душа терпеливей к страданью в надежде, что всякая, без вины, боль земная посмертно, по золотинке за бочку слез, вознаграждается в небесах. Впрочем, священник и не нуждался в подтверждающем сей тезис знаменье небесном, пока все казни египетские не обрушились на его страну. Раскорчевка бывшей империи под всемирную цитадель интернационального братства началась планомерным искорененьем православия, заложенного в фундамент русской государственности. Вслед за изъятьем ценной служебной утвари из алтарей стали редеть храмы на Руси, а с уцелевших посымали их медные глаголы, чтобы вкрадчивым напоминаньем не омрачали наступившую весну человечества. Старинный собор старо-федосеевского некрополя с наспех залатанными поврежденьями октябрьского штурма еще сохранял свою внешнюю парадность, быстро тускневшую от наплыва покойников, которые буквально ломились на кладбище, отбоя нет, словyо торопились поспеть на обительский корабль до его отхода в потустороннее плаванье. Не радовали бедного вятского попа обманчивые приметы приходского процветания – текучая волна богомольцев, расточительный дым кадильный, гробы, проплывавшие мимо под безутешные рыданья провожатых, вплетенные в райские напевы почти концертного хора: пугало зловещее обилие отовсюду слетевшейся экзотической голытьбы.
Точно с ветру взявшиеся благородные матроны в кружевных траурных косынках убирали нагар со свечей, торговали рукодельными цветочками и погребальной мишурой в украшение могилок, а преобразившиеся в садовников и регентов бравые, воинского обличья и с седыми подусниками старички пели в хоре, хлопотали по благоустройству новоприбывших на кладбищенском новоселье. Задолго до утрени, от ворот до паперти выстраивалась шеренга обломков прошлого, где попадались призрачные игуменьи владычных монастырей, и митрофорные протоиереи с академическими значками на груди, а среди них известный о. Матвею по семинарскому учебнику доктор томил евтики и, наконец, скорбно зажмурясь от постигшего их ничтожества, сами недавние давальцы на церковное благолепие. Все это чередовалось вперемежку с калечным и бездомным божьим людом, похмельным сбродом и просто рванью человеческой; держась за вделанную в стенку железную скобу, чтоб не утратить место в толчее, они зорко караулили пятак богомольца, устрашаемого при виде стольких протянутых рук; разок-другой пришлось и чуть не батожком унимать их голодную корысть. Томясь стыдом за свою временную сытость, потому что всякий раз искал в этой галерее нищеты свою завтрашнюю участь, о. Матвей с опущенным долу взором торопился миновать их жалкий квохчущий строй. На всех пока хватало кутьи и милостыни, но уже поговаривали в народе, что новая власть царем да богачами не ограничится, а после малой передышки примется за самые небеса.
Не более двух лет длилось тревожное процветанье Лоскутовых на новом месте. Близ очередного Рождества порывом того ветра смыло с паперти нездоровую толчею затянувшегося праздника. Закрытием именитого некрополя как бы отменялся исконный обычай племени провожать усопших заупокойной молитвой с восковой свечой и ладаном. Из искры возродившееся пламя быстро становилось повсеместной огненной бурей, в которой пылала и плавилась всяческая сорная старина – святыни, обряды, потребности, ремесла, включая тысячелетнюю государственность и самую веру русских. В середине первой пятилетки, куда ни глянь, по всему горизонту стлалось незримое, обжигающее душу зарево.
В былых крестьянских пожарищах на Руси неизменно наступал тот переломный момент, когда во всю ширь отчаянья раскрывается бесполезность дальнейшего сопротивления огню. Уже без причитаний и молитв ночная суматоха сменяется отрешенным созерцанием, как повсюду прорвавшаяся сквозь стропила рыжеволосая беда швыряет в рассветную муть охапки искр, а шалый ветерок помогает ей пожирать основы бытия. Уже не плачут дети, бабы не бьются оземь головой, лишь собаки вопросительно косятся на помертвевших хозяев… Еще красочней из-под пера Матвеева вырвалось надгробное рыданье по отечеству в письме родному дяде жены, отставному протопопу Устину Зуеву, который, своевременно перековавшись на пчеловода, безнаказанно существовал пока в алтайской глуши.
«Доселе помнятся мне вещие слова твои из предпоследнего письма – «сколь не просится у тела душа моя, чтоб отпустило ее отдохнуть на небесном приволье, противится, держит крепко, дай Бог, в чаянии лучших времен… напрасно машет крыльями, бедняжка, отцепиться не может». Вот и моя тоже… Воистину обширная, незримая зола простирается ноне кругом нас: экое кострище из России содеяли – еще полвека отполыхает, пока не прогорит дотла! У них сколько веков плакал Иеремия, а мы только лишь спочинаем, и кто знает, надолго ли хватит наших слез. Соблазнились православные на жидкое братство и, не понюхав, вкусили досыта. Не про нас ли сказано: зарекалась ворона навоз скребать, а как увидит – обязательно. И вот – пала, грозная, в боях, не обнажив меча, дружина.
Я думал, когда новый строй придет, что будет общий улей, где все объединено. Людей ждет удел пчелок золотых, которые работают на хозяина и на Бога. А новые властители собираются перековать род людской на породу шершня, который, как сам видел, среднего размера муху обыкновенную запросто перекусывает пополам.
И вот, чуть сумерки, все мы, обреченное, слепнущее старичье, мысленно бродим по своей неостылой погорельщине и в потемках, благоговейно подымая из-под ног обугленные головешки, на ощупь пытаемся опознать, чем это было раньше. Доныне по указанию Господню гений и святость вели род людской из ничтожества на вершины всеобщего прогресса, но, чрезмерно жалостливые к чужому горю и, чуть дымком запахло, спешившие с ведерком помочь соседу, русские по любимой поговорке – на миру и смерть красна – сверх того мечтали об одинаковой для всех судьбе на базе равенства материального, однако же без превосходства умственного во избежание кровавых междоусобиц, чтобы всем и всего было поровну – вплоть до глада, хлада и нищеты бездомной. Нас взяли на заманку всемирного братства… Боюсь, что вскоре Господь накажет нас исполнением желаний… – ибо оглянися, как жутко и страстно железкой выскребаем разум из собственного черепа своего, стремимся погасить высший дар Его… кровью застилается рассудок от созерцанья неотвратимых последствий… Невольная приходит на ум догадка – не в том ли заключалось историческое предназначенье России, чтобы с высот тысячелетнего величия и на глазах у человечества рухнуть наземь и тем самым собственным примером предостеречь грядущие поколения от повторных затей учинить на земле без Христа и гения райскую житуху? И вот лукавый бес ночной шепчет мне под руку полюбоваться – как причудливо выполняется у нас нагорное пророчество о примате нищих духом в царстве Божием.
Пишу сие не столько во утешение скорби, как ради осмысления жертвенной участи нашей в глазах потомков».
И потом приписал в конце:
«А еще грешен: частенько чудится мне, как бывало на вечерней зорьке перед покосом русские девчушки водили песни хороводные, в которых слышались зов, прощание и молитва».
Временами и вдруг одолевала о. Матвея срочная надобность выяснить – слышат ли там, в небесах, что творится на святой Руси?
Гонимый алканием чуда, не раз за зиму и на исходе дня, вскинув на плечи ветхий, вятской поры, кожушок, кружным путем через боковой ход пробирался священник в обындевелый храм. В год, как Кирова убили, жестокое поветрие порвало обшивку купола и через дыры вместе с голубями ворвались недуги подобных зданий, покинутых Богом и людьми. Пророки и евангелисты в кольцевом барабане покрылись известковыми нарывами, а запрестольная фреска вовсе превратилась в легкомысленный натюрморт. Зажмурясь, чтоб не видеть запустенья, ничком валился на щербатый, выхоженный пол и, не простужаясь, по часу и дольше лежал распластанный, шепча сто тридцать восьмой псалом, и так был насторожен слух, что слышал паденье оторвавшейся от купола снежинки инея. Вдруг где-то над головой, как бы на тарабарском языке, возникала отдаленная речь вперемежку с плеском крыльев и глухим скрежетом скрестившихся мечей, и замирало сердце, принявшее мираж за докатившийся сюда отголосок битвы Добра со Злом. И не было о. Матвею ни намека, ни хотя бы утвердительного лучика в ответ, всего лишь курлыкали вверху слетевшиеся на ночлег иззябшие голуби, да вечерний сквозняк шевелил ржавые листы порванной кровли, да еще пришел Финогеич, отыскавший пропавшего попа по следу в глубоких снегах той зимы.
– Беда с людишками, совсем припадошные стали! Подымайся, дакось я тебе помогу… – ворчал старик и придерживал беднягу под локоток, пока могильный озноб стекал обратно в камень. – Как в сказке говорится, чего еще тебе, старче, надобно? Сапожной иглой злата не добудешь, зато никакая рыбина зубатая в нищую-то нору за добычей не сунется. Слышь, волна какая вверху расхлесталася, а у нас тишина, как на дне морском. Нас-то многовато развелось, дай Ему отдохнуть от нас! Может, еще и повидаетесь, по ком скорбишь, потерпи… – И всю дорогу выговаривал смирившемуся батюшке о вреде лежания на плитах, ровно вымолоченный сноп – долго ли остудиться этак-то, а тот повинно отшучивался, дескать, приговоренные не простужаются.
…За те памятные полтора часа, потраченные на попытку логически расшифровать мистический иероглиф бытия, который все мыслящее читает в своем ключе, Матвею Петровичу живо вспомнилось одно опалившее ему душу утро давней поры полного сиротства между смертью матери и опекой благодетельного шорника. В бытность подпаском на селе, оставленный наедине со стадом и застигнутый грозою на лугу без всякого укрытия кругом, мальчик недвижно, с благоговейным испугом подлинного откровения выстоял литургию стихий, где чьи-то молнийные возгласы, чередуясь с басовитой осанной громов, завершились штормовым ливнем, насквозь промочившим парнишку. Наступившая затем, как бы по праву, робким щебетом пташек оглашаемая тишина звучала как совместный кому-то гимн благодаренья всей живности земной от затихшего стада до травы включительно. Любой из Матвеевых сверстников воспринял бы ту, во всю ширь окоема распахнувшуюся радугу как приглашение природы принять участие в ее беспечальных играх напропалую, но пастушонок лишь ежился в отяжелевших от влаги лохмотьях. Наверно, такая же, на грани разумности проступившая потребность в убежище от непогоды учила нашего предка преодолевать заодно и прочие неудобства первобытного существованья, что и доставило ему сперва старшинство в семье, а затем и свойственную царям тоскливую одинокость, толкнувшую его впоследствии на розыск пусть отдаленнейшей, на микробном уровне, космической родни, которая почему-то никак не откликается на наши позывные. Не отсюда ли возникла дерзкая Матвеева догадка о вовсе невыносимом, герметически замкнутом одиночестве Демиурга, звездно взорвавшегося некогда блистательной россыпью миров?
Вчистую отбившемуся от большой семьи Человеку потребовались труд и время изобрести перспективные средства общенья с нею. Самым надежным из них оказалось полное, со стихиями заодно, порабощенье вчерашней родни во имя священной и пока никем не уточненной цели. Но если в мире, где подразумеваемое нечто глубокомысленно переливается из пустого в порожнее, эволюция осуществляет единственно осмысленное стремленье к высшему совершенству, тогда что же является ее движителем – соревнованье с божеством, ностальгическая тяга ко вратам рая или нынешняя, во главу угла поставленная коммунальная обслуга расплодившихся землян? Уложившийся в дюжину строк обзор высотной гонки по гималайским серпантинам прогресса с тормозным визгом на поворотах и зависанием колес над обрывом, после подъема на перевал наконец-то завершается выходом в просторное небо. И там, в сияющей дымке горизонта, профильно угадывается мечта обетованная, совсем близкая теперь, кабы не зональная пропасть впереди. Поначалу мнилось – ничего не стоило перемахнуть ее инерционным броском сорокавекового разбега, но утратившая былую ангельскую крылатость старая мудрая глина тела Адамова опасалась сорваться в гулкую за краем круговерть с плывучими поверху облачками. Меж тем, сзади напирала беспечная, с несметными обозами цивилизации лавина человечества, и вот уж кончался отпущенный ему на раздумье лимитный срок. Именно тою, на полстолетия затянувшейся долькой космического мгновенья и датируется тогдашняя стоянка мира над бездной.
И правда, в сравнении с тем, что творилось на Руси, даже с учетом незаживаемой раны Лоскутовых, тишина установилась в старо-федосеевском некрополе, как на дне моря житейского. Если не считать газет с призывами на разгром старого мира, истинные отголоски бушевавшей наверху бури достигали сюда в виде обломков через заказчиков, вчерашних прихожан, нуждающихся в наставленье либо исповеди, или в панихидке по родственнику, внезапно изъятому из обихода, а то и ввиду собственной своей насильственной кончины. Особо запомнились два таких случая, – в одном – ветхая старушенция с ридикюлем слезно просила заочно отпеть любимого внука и, видать, то ли для снискания социальной симпатии, то ли из опаски, чтобы не спутали на небесах, совала растерявшемуся батюшке фотографию вихрастого юнкеришки в еще несмятых погонах. И у Матвея Петровича не хватило мужества отклонить ее наивную и фантастическую просьбу о придании земле фотокарточки убиенного без суда и следствия, хотя, кабы раскрылось, власти расценили бы его поступок как пособничество контрреволюции. Казалось бы, старушка добивалась даже канонически непредусмотренного погребения картонки с портретом расстрелянного. А в другом речь шла всего лишь о совершении погребального обряда, правда, в присутствии будущего покойника, в чем, по существу, заключалось благословенье его на нечто еще более страшное, чем простое самоубийство. Впервые опаленный дыханием эпохи, батюшка испытал надолго парализующий шок, словно прикоснулся к проводу смертельного напряжения.
Лунной ночью ранней зимы, сразу после Покрова, батюшку разбудил воровской стук в окошко. В шлепанцах на босу ногу, с одеялом внакидку и крадучись, чтоб не разбудить семью, выскочил в сени и, ухом приникнув к двери, ждал снаружи обычного пароля таких вторжений, вроде нуждающегося в приюте запоздалого путника или срочной телеграммы, но молчали и на крыльце. Когда же, подчиняясь странному влеченью, посдвинул засов, в дверную щель к нему силой протиснулся с воспаленным взором некий юноша, спекшимися губами шептавший что-то неразборчивое. Незнакомец именем Бога заклинал о. Матвея отпеть его безотлагательно, причем торопясь расплатиться за свою жуткую надобность, совал ему какую-то вещицу в бумажке наугад, в напрасном поиске кармана на ночной до пят рубахе последнего.
Практически такое почти не встречалось в прошлом. Один ближайший, а ныне в дальней отлучке находящийся родственник, начитанный по части исторических курьезов, рассказывал отцу про известного своими причудами Карла Пятого, повелевшего придворным отслужить о нем заживо, в гробу, заупокойную мессу, и клир послушно исполнил над ним полный погребальный обряд. При внешнем сходстве разница заключалась в том, что если там, четыреста лет назад, отпеванье происходило во утоленье философской любознательности – испытать промежуточные состояния по дороге в царский саркофаг, то здесь таилось стремленье любой ценой укрепить волю на умерщвленье тирана, тем самым утратить чувствительность к ожидавшим его пыткам. Налицо был тот случай, когда дух, отрекаясь от жизни, делает тело послушным инструментом подвига, ибо мертвому дыба не страшна. Бедный поп оцепенел от догадки – на кого замахивался безумный юнец.
Оба они, священник и будущий убийца, дрожали.
Один – с перепугу, другой – от нетерпенья выполнить веление совести. На выручку до костей промерзшего хозяина подоспел вышедший на шум Финогеич и, как был босой и не вникая в суть дела, ловким матросским швырком скинул с крыльца явно сыскную личность. Движимый не только отеческой жалостью, но и социальным сочувствием, пожалуй, к несостоявшемуся герою, почти двойнику другому, единокровному, батюшка вовремя приказал старику отступиться от мальчишки, который, сидя на снегу, корчился и грыз шапку… Кстати, та оброненная в сенях вещица в бумажке оказалась золотой монеткой, в милицию о. Матвей свою находку не сдал как прямую улику общения с важным, да еще отпущенным на волю преступником, а также из боязни, что настрого спросят – где остальное.
Сходное вторжение эпохи на старо-федосеевский некрополь повторилось год спустя, зимой же и тоже при луне. Перестрелкой под окнами разбуженные жители домика застали лишь самую развязку события, когда погоня настигла беглеца. Немного удалось им разглядеть сквозь наспех расцарапанную наледь на стекле. В белесом сумраке ночи происходила суматошная, как в плохом кино, схватка теней, завершенная глухим, без вспышки, выстрелом впритык. К рассвету вышедшая на разведку молодежь ничего не обнаружила на месте происшествия, которое легко сошло бы за забаву могильных нечистей, кабы не красная льдистая дырочка, протаянная в натоптанном снегу.
…Оглушаемые фанфарным лязгом похвальбы и ночным грохотом на всю мощь запущенных грузовиков, большинство современников, кроме самих расстреливаемых, не подозревало в полном объеме того, что раскрылось им после смерти вождя, хотя убойной всячины и тогда было уже достаточно для эсхатологических раздумий – чем в конечном итоге и, судя по такому началу, должна завершиться наша земная путевка. И так как застигнутым бедою на малом островке выгоднее держаться вместе, то на очередной вечерней сходке жителей домика со ставнями, встревоженных только что состоявшейся казнью крупнейших тогдашних генералов страны, естественно, возник вопрос: не заглянет ли теперь зловещая судьба и в их печальный закоулок? Сама собой возникла дружная, с участием тогда еще живого Аблаева, беседа скользкого содержания – откуда взялась такая разноликая, пополам с издевкой, скорбь земная, противоречащая догме о стопроцентной полноте христианского существования? Высказались одни мужчины, каждый – на уровне своего разумения о предмете и с тою предельной четкостью на гребне волны, когда мысль становится отпечатком личности. Сильнее всех подкованный в науках, студент второго курса Никанор, по аналогии с двойными звездами, выразил смелую догадку насчет Добра и Зла, будто не одно-единственное, а целых два равноправных и взаимополярных начала своим вращеньем вкруг третьего надмирного и лишь математически помышляемого суперобъекта балансирно обеспечивают гармонию вселенной. По мнению тоже начитанного и младшего в семье тринадцатилетнего отрока Егора, беда диктуется переизбытком статического электричества, производимого все возрастающим в условиях крайней тесноты трением народов и особей друг о дружку, чем и объясняются частые самовозгорания человечины. Покойный дьякон, напротив, истолковал Зло как контроль над излишним милосердием Добра, его щедростью, попустительством, чтобы не случилось разорения и оскотения. Что касается Финогеича, то, мыслитель по своей шекспировской специальности, он разрубил завязавшийся узелок своей лопатой в том смысле, что скоропалительное, за шесть суток создание мира даже у Творца не могло обойтись без технических промашек, как нонче у Советской власти на наших глазах. Тут все замолкли и выжидательно уставились на своего председателя, которому полагалось заключительное слово. Наверно, как и у прочих знаменитых отступников, ересь матвеевская образовалась из постоянной близости к объекту поклонения, подобно тому, как от длительного пребывания в окружении царственной особы благоговение придворного незаметно вырождается в привычку, почтительную фамильярность, позволяющую ему снять пушинку с плеча государя, поправить складку коронационной мантии. И так как рассмотрение божественной темы под углом бренного человеческого бытия в корне противоречило неприкасаемым догмам вероученья, то Матвей Петрович постарался значительно смягчить свое вопиющее вольномыслие, чтобы, по Писанию, с жерновом на шее не утонуть в пучине морской за соблазнение малых сих.
На стыке фанатической веры и благочестивого вольномыслия насчет кое-каких явных логических неувязок и вознамерился батюшка последовательно, догмат за догматом, разъяснить весь Филаретов катехизис на уровне, доступном даже для сельского населения. Было известно с давних пор: распря небесная началась из-за человека, оказалось тут, еще задолго до появления его на свет. И лишь после уймы бессонных ночей, которые провел за сапожным верстаком, мысленно исследуя ускользающую от ума непреложную истину, наткнулся вдруг на каверзный и никем дотоле не поднимавшийся вопрос: а собственно зачем, в утоление какой печали Верховному Существу, не знающему наших забот, потребностей и вожделений, понадобились вдруг грешные, дерзкие, скорбные люди и почему никто пока не усомнился в туманном богословском постулате об изначальной любви к своим завтрашним творениям, ибо как можно заранее полюбить еще не родившихся? Недели две подряд о. Матвей мучился над другою и явно духом тьмы навеянной догадкой, что человечество было изобретено по хозяйственным соображениям, дабы не пропадала даром излучаемая свыше благодать. Самое вероятное, третье, строилось на убеждении – ежели уделом земных властелинов бывало одиночество, то надмирный вдобавок, в силу своей способности делать благо без затраты физических усилий, в создании людей не знал и творческой сытости, достигаемой тою блаженной усталостью, позволяющей мастеру наградить себя своею собственной похвалой, для взыскательного художника высшею на свете, что полностью согласуется с библейским эпизодом, где создатель вселенной, по отраслям обозревая свое титаническое деяние, четырежды произносит ему скупую и щедрую оценку: хорошо. Отсюда начиналось все, о чем идет речь, и оттого даже в помысле трудно допустить такую разновидность предварительного пространства, как абсолютная пустота, чтобы в нее вписалось столь же иррациональное, потому что ячеистое мироздание со множеством одинаковых вселенных, мнимая несоразмерность коих объясняется чисто перспективным эффектом расстояния одной от другой, ибо в расширяющемся объеме без центра нет такой мелкости, чтобы еще меньшее, но равное не уместилось в ней. Мироздание, подобно батавской слезке, ворвалось в едва готовую пустоту с температурой абсолютного нуля клубком огненных молний.
И так без остановки вширь и вглубь, чем дальше, тем сложней, пока поиск первичной истины, как обычно, не завершится вывихом ума. К тому же вся эта реальная необъятность предназначалась, видимо, для заселения обыкновенными людьми. Разгадка заключалась в том, что небесная благодать поступает к нам сверхмощными выплесками пылающей плазмы, в которой растворены равновеликие открытия по обе стороны Добра и Зла, одинаково для свободного выбора обеспеченные полновесной казной вселенского всемогущества. Но люди из еще неостылых обломков протуберанца, вторично пропущенных сквозь жаркие тигли своих сердец, как из исходного материала, выплавили себе лишь таившиеся там дотоле сокровища, как музыка, молитва, магия, математика и прочие производные от мысли и мечты, – спектральный менталитет собственного, пусть на меньшем числе координат райского мирка, достойного звездою сиять в короне Вседержителя, если бы тысячелетия спустя ученые потомки не усмотрели в благородном диаманте досадные изъяны вроде погрешностей социальной огранки или затемнения по наличию глины, оказавшейся наиболее рукопослушным материалом при изготовлении первомодели человечества. Догматическое свидетельство Моисея об оправдании нашего праотца по образоподобию Божию и переданное нам в апокрифе Еноха дерзкое поведение будущего сатаны в большом доме подтверждают версию Матвея Петровича, что Адам был задуман Богом как промежуточная рабочая ипостась между собою и ангелами с подчинением последних человеку. Разыгравшаяся затем ссора плачевно отразилась на дальнейшей истории человечества. Впрочем, никаких ангельских мятежей не было, да и не могло быть, потому что как могли призраки пронзать друг друга копьями, рубить саблями, оставаясь бессмертными?