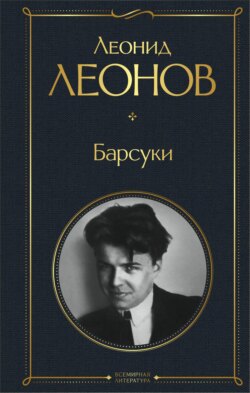Читать книгу Барсуки - Леонид Максимович Леонов, Леонид Леонов - Страница 2
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I. Егор Иваныч Брыкин женихаться едет
ОглавлениеПрикатил на Казанскую парень молодой из Москвы к себе на село, именем – Егор Брыкин, званьем – торгаш. На Толкучем в Москве ларь у него, а в ларе всякие капризы, всякому степенству в украшенье либо в обиход: и кольца, и брошки, и чайные ложки, и ленты, и тесемки, и носовые платки… Купечествовал парень потихоньку, горланил из ларя в три медных горла, строил планы, деньгу копил, себя не щадя, и полным шагом к своей зенитной точке шел. Про него и знали на Толкучем: у Брыкина глаз косой, но меткий, много видит; у Брыкина прием цепкий, а тонкие губы хватки, – великими делами отметит себя Егорка на земле.
А за неделю до Казанской нашел Брыкин стертый пятак под водосточным желобом. С пятака и пристала к нему тоска. Осунулся и помертвел, вся скупая пища, какую принимал, на разращенье его тоски пошла. Тут как-то, сидя на койке у себя со свечкой, сосчитал Брыкин сумму богатства своего и задумался. Причудилось ему, что уже настало время удивить мир деянием большого человека Егора Брыкина, а тоску за предвестье славы своей счел. Парень он был коммерческого смысла, знал потехе меру, деньгам счет, высшему чину лукавый почет, а себе истинную цену. Пораздумав вдоволь и дело обсудив с городским своим приятелем Карасьевым, порешил Егор к жнитву домой жениться ехать.
Назаровскую, с лихими бубенцами, нанял он со станции тройку, – четвертной билет Егору в женитьбенном деле не расчет. Ямщика щедро выпоив чаем с баранками, чтобы в Сускии не ночевать, сел пошире да поскладней на все сорок четыре скучных версты, сплюнул из-за папироски, покрестился со смешком на иконку в подорожном столбе, сказал ямщику речисто и степенно:
– Правь.
Дернул коренник, свистнула по пристяжке вожжа. Трескуче защебетали железные шины по крупному щебню станционного шоссе. Потом свернули в сторону, смягчилась дорога высокой топкой пылью. Куриные домики станционной мелюзги сменились тяжкими ржаными полями. А вокруг двинулись, уплывая назад, старознакомые виды Егоровой стороны.
Плыли мимо глухие овраги, сохраняющие к далекой осени влажный холодок, и рощичка крохотная, о семнадцати березках, стоящих на отлете под пылью и ветром, плыла. Проплывало ленивое и чинное, как ржаной ломоть, все насквозь соломенное Бедряга-село, и полянка резвая убегала, на которой, в гостях у бедрягинского дядьки, игрывал в лапту с ребятами Егорка.
Заяц проскакивал на опушках, и воробьи взлетали со свистом крыл. Старенький попик в заплатанной ряске проползал мимо, кланяясь и сторонясь ко ржи. Бабку обгоняли, бредущую к ровеснице за семь верст – навестить, новости выведать, хлебца откушать, – не поторчал ли у подружки хлеб. И над ними над всеми буйным облаком взвивалась от Егорова поезда густая дорожная пыль.
Любо стало Егору Брыкину озирать с высокого тарантасного сиденья все эти когда-то пешком пройденные, полузабытые места. Вишь – и небушко, милое, не каплет! И ржица доцветает, а ветер бежит по ней, играя облаком дурманной ржаной пыльцы. И теленочек, рябенький голубок, у загороды привязан стоит. И солнышко над дальним синим лесом, усталое за день, медленно клонится к закатной черте. И впрямь отдохни, родное: надоест еще тебе мужицкую жатву полуденным жаром обвевать!
Взыграла Егорова душа.
– Как, не зажинали еще по волостям? Не слышно?
– Куда ж еще зажинать! – смеется беззлобно ямщик. – Ведь рожь – она как? Она две недели выметывается, да две цветет, да две наливает… а тут она, глянь, еще и не побелела! Вот Гусаки, сказывано, уж и серпы зубрят, – не оборачиваясь, в бороду гудит ямщик.
– Зубря-ат! – степенным гневом вспыхивает Егор. – Ровно татаре аль цыгане там твои Гусаки! И в самый светлый день-круги, Махметка!..
Вожжи вскидываются на потные лошадиные спины. И опять одолевает неустанная назаровская тройка тягучие, ленивые версты. День переменяется на вечер. Холодеют дали кругом. В тонкий пыли посерели лакированные жениховские сапожки.
Приятным дремотным ручейком текут мечтанья сквозь Егорову голову. Как приедет, так и пойдет к Мите Барыкову в гости, с гармонью, на выселки. И как придет, так и сядут они, два, рядышком на крылечке, так и заиграют дружно на двух гармонях, вместо пустых разговоров – как жил, что пил, чем похваляться приехал. А потом, пооткинув гармонь за плечо, вытянет Егорка сапожки свои, Мите в зависть и раздражение, да и вытащит из кармашка ненароком серебряный свой, полных восемьдесят четыре пробы, с голой дамочкой на крышке, портсигар: «Не угодно ли папиросочку тонкого формата, Дмитрий Дорофеич? Табачок самый турецкий, четвертак коробка, в магазине куплено!..»
Замечтавшись, томно клонит голову на плечо Егорка. Сладко жениху предчувствовать собственной свадьбы угарную пьянь. Ох, Егорка, житье твое просторное! Вон сколько места предоставлено земной твоей славе!
– Только б папенька не помер. Всем делам подгадит, – вздыхает вслух Егор Иваныч и опять поникает головой.
– Чего-о?.. – равнодушно тянет ямщик.
– Много ль осталось, спрашиваю! – грубо кричит Егор и косится злым взглядом на морщинистую грязно-красную ямщиковую шею, и ежится, разбуженный от мечтаний, в своем люстриновом пиджачке.
– Да вот сам считай… От Бедряги до Рогозина пяток наберется, да две проехали. Да от Рогозина до Сускии десять. Вот тебе и выходит…
А уж меркнет безветренное небо. В краю луга дотлевает за дальними лесами ласковая полоска зари. Подорожные кусты стоят ровно и кругло. Приходит в тот край большой покой трудового сна.
Вдруг стала тройка. Скинулся с козел, вглядывается в сумерки кустов ямщик. Потом, на ходу разминая затекшие ноги, идет неспешно к тем кустам. А мать Егора догадливым родила, – кричит Егор Иваныч:
– Ой, никак, ваше степенство, капустки с сыренькой водичкой обхлебались?
Тот будто и не слышит. С возрастающей тревогой подается из тарантаса Егор. Склоняется ямщик к кустам, даже и обрывки его речи не доходят до настороженных Егоровых ушей. Ямщик идет обратно, несет на руках мальца лет тринадцати, легко – точно липового. У мальца губы запеклись, как в болезни, лицо – цвета праха и пыли, а руки висят, словно и нет их, а рукава одни. Обессилевшее тело мальца покорно и гибко в коротких руках ямщика.
– Неужели клад отыскал? Чур, пополам! – трескуче хохочет Егор Иваныч.
– Пополам и придется, – слышит Егор в ответ. – Ну-ко, примости его направо да попридержи: как поедем… не выпал бы!
И, не дожидаясь Егорова согласья, впихивает ямщик найденыша к Егору на сиденье. Малец дрожит, бессильным стебельком клонится на возмущенного Егора.
– Эй, борода! – хорохорится тот и с негодованием отстраняет лакированный сапожок от грязного Мальцева лаптя. – Ты меня, кажись, одного нанимался везти. Парень и так добежит. На парня у нас с тобой уговору не было.
Ямщик рывком трогает с места. Смолкает и Егор Иваныч, тронутый внезапным соображением: «Ой, медведя, Егорка, не серди! Места глухие, воровские, болотные. И сгниешь ты, Егорка, со всеми сундучками и турецким табачком в болотной дырке, бесславно и безвестно».
Тут предночной ветерок подул и колыхнул верхушку проползавшей ветлы. Золотое полотенчико померкающей зари порвалось в лиловые клочья. Пыль прилегла, и задымились росы. Неутомимые, на стежках застрекотали ночную песню кузнечные хоры. Опять бегут под колеса сажени и версты, еле успевает переступать по ним разгоряченными ногами коренник.
Село Суския! Маячит в сумерках белый толстый храм торгового села. Горят костры по низкому берегу Мочиловки, – светляки полусонному взгляду Егора Брыкина. Картуз нахлобучивает поглубже Егор Иваныч и мальца прихватывает к себе, чтоб не слишком бился на ухабах. Опять в неглубокий омут жениховских мечтаний уходит Брыкин с головой.
Как приедет – спать. А с утра оделит Егор Иваныч сродников гостинцами, знакомцев поклонами, степенным щелчком зазевавшегося мальца. Потом, гармонь потуже подтянув к плечу, айдакнет Егор Иваныч к Митьке в гости. А уж к вечеру и повытомит он и статных девок, и крепких вдовух, и засохших вековух и сапогами, и гармонью, и тонкими, немужицкими разговорами, в которых что ни слово – ровно томпаковое кольцо: и блестит, и сердце голубит, и скинуть его с перста не жаль. А что ряб Егор Иваныч, как рогожка, так ведь лицо что? Лицо – что пол: было бы вымыто. Зато как отгуляет он холостые денечки, зашлет свахой Катерину Тимофеевну, попадью и ябеду, к Бабинцовым на двор. И наказа своего повелит не преступать: чтоб не сразу выкладывала Егоров помысел, а почванилась бы вволю, будто невеста с глуховатинкой, будто уж и перины в чулане подопрели, и шубы повылезли, ожидая зятя Григорию Бабинцову, Аннушке – мужа и хранителя. Катерина Тимофеевна в жизни знает толк: толста, и слова у нее круглые. Закуролесит всю волостную округу Брыкин. Все гармони на десять верст округ похрипнут от Егорова веселья. Ой, великое куриное пьянствие, ой, мирская смехота!
– Паренек-то родственничек тебе аль как? – ластится к ямщику раздобревший от довольства своего Егорка.
– Своих не признаешь. Знать, дома давно не бывал? – кряхтит ямщик. – С коровами-то – слышал? – беда вышла.
– Ан и не слыхивал… Какая? У нас, говоришь, в Ворах, беда?
– Все бы нам подешевше, – раздумчиво укоряет ямщик, – а за дешевку-то впятеро платить. Максимку Лызлова памятуешь?
– В пастухах который? Ну! – торопит Егор.
– Заспал на солнышке, по старости… а пастушата – ведь вон экие, их самих пасти впору – дудки резали. Коровы – восемь ли, девять ли голов – спустились на поемку…
– Ой! – пугается Егор, сдвигаясь с сиденья.
– Вот те и ой. Спустились да веху и обожрались… Подохло пятеро. Остальным фершал чекмасовский – Шебякин, что ль? – пузья прокалывать наезжал.
– Выходили? – волнуется Егор, ерзая по сиденью.
– Да не известны мы.
Переезжали мосток. Бревна хлопали, колеса стучали, мешали слушать.
– …парнишку, евойного братеня, крепко побили, в кулаки. Шестнадцатый всего парнишке. Да што, коров-то не подымешь! А этот вот убег да четыре, вишь, дня в лесах бродил. Сенькой-то тебя, что ли? – спросил он вдруг мальца, пугливо вскинувшего большие, в кругах, глаза. – Задичал! А мать в реке багром шарила. Темные мы, ровно под землей живем…
Ахает Егорова душа: неужто и твоя, Егор, корова в счет попала? А корова – месяц целый крику на Толкучем, земляка в трактир не сводить, с Карасьевым в праздничек пивком не побаловаться. Да еще новый дом в Ворах в голубой оттенок красить сбирался…
И тут же в память идет: и их – Егорку, да покойного Алёшу Босоногова, да Андрюшу Подпрятова, да Митю Барыкова – в детстве влекло на Глебовскую пойму, где высокого веха полые палки ненасытно сосут черный жир из заболоченной земли. Из веха цыкалки делали и дудки. Под вечер шли домой и трубили все четверо дружным хором и наперебой, распугивая куликов и кур, брюхатых баб и молодых телят. Егорке и прозвание было дадено: Егорка Тарары.
Небо стало глубже и темнее, увеличиваются в нем стайки звезд. Придвигается последний перелесок, за ним – Воры, Егорова родина. Лихо козырек пооткинув, носовым платочком обмахивает Егор Иваныч пыль с сапог.
– Да уж и то сказать! – рассудительно внушает Брыкин. – Уж больно народ у нас дик. Били нас, надо сказать, мало. Ноне, к примеру, жалобитесь да слезой тексте, а завтра как хлобыснете по священному-то месту… Серость в вас!
– А сам-то, аль в графья пошел, как в городе пожил? – в первый раз оборачивается ямщик; из его деревянной рожи, распустившейся в острую насмешку, узятся презрительные старичьи глаза.
– Ну-ну, уж не щерься… правь, правь! – рычит на него Брыкин, скаля зубы и кося глаз на близкое село. – Ты знай свое дело, чеши бороду!..
Ямщик злобно и тупо смотрит на Брыкина и вдруг рывком поворачивается к лошадям.
– Э-э-к, вы… собачки зеленые! – с надрывом и дико кричит он, и кнут его свистит на всех трех разом.
Тарантас, хрипя рессорами, вспрыгивает и ныряет в последнем ухабе, на взъезде в село. Охватило знакомым духом жилых изб. Полаяла на троечное колесо собака. Лихие, безудержные, из последних сил раззвенелись по селу бубенцы.
Ночь.