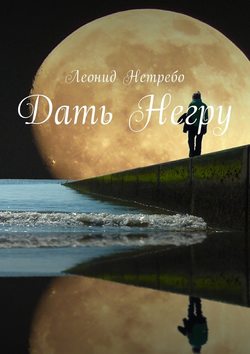Читать книгу Дать Негру - Леонид Нетребо - Страница 4
РАССКАЗЫ
ЛЕВЫЙ ШМЕЛЬ
ОглавлениеВы показались мне жуликом; в лучшем случае – пройдохой.
А какой приличный человек, едва примостивший чресла к автобусному сиденью, выдает случайному попутчику свое сногсшибательное происхождение?
Да, на первый взгляд, ничего особенного: из аула башкирского бунтаря, соратника Пугачева. Но ведь я-то, следуя вашему простодушному лукавству, должен был сразу предположить, что где-то там, в самом низу, где веточки родословного древа, если таковое уже сработано виртуозными историками, сходятся к имени Салават, возможно, есть какая-нибудь пастушка-ханум, к которой вы сейчас испытываете генеалогическое неравнодушие.
На всякий случай вернитесь и перечитайте предыдущее предложение: я написал «пастушка», а не то, что вам может послышаться от быстрого прочтения.
К чему это? – спросите вы.
Отвечаю: к тому, что я всегда восхищаюсь отсутствием акцента у тех, кто пользуется неродным для себя языком, и всегда пытаюсь поймать вашего брата на непонимании хотя бы фразеологизмов; а если быстрая поимка не состоится, то я, что называется, снимаю шляпу. Вообще, мне кажется, такие, как вы, даже с акцентом, тоньше чувствуют родной для меня язык, находя в словах исконный, первородный смысл. Тот смысл, который мне недоступен ввиду расхлябывающей привилегированности, присущей носителям титульного языка.
Впрочем, не задавайтесь, скорее всего, дело не в вашем чрезмерном понимании, а в моем обостренном слухе, рожденном, как я уже заметил, моим же восхищением, немного самобичевательным, а следовательно, ущербным. Одно отрадно – восхищение, как правило, тает в течение первых пяти минут знакомства. Вот и с вами все повторилось: очень скоро, разобрав вашу казенную заштампованную речь, я поверил, что вы есть то, чем и представились, так сказать, окончательно: журналист. Да, вы не назвали того издания, где лежит ваша трудовая книжка, – и это, опять же (лукавая простота угадалась в вашем потупившемся взоре), я должен был расценить как скромность, а отнюдь не как преграду нетактичным вопросам: «А что это? И где?..» Впрочем, оставим нежелательные темы для папарацци районных масштабов.
Так я вас отныне и буду называть: папарацци – так мне понятней и, значит, удобней. Вы можете возражать.
Простите, но даже сейчас, через неделю после нашей мимолетной встречи, когда я вывожу эти слова в ленивой попытке выполнить вашу просьбу поделиться впечатлениями о своем отдыхе в «одном из лучших российских санаториев», мне трудно отделаться от иронии – порождения общей досады, которая не покидала меня всю дорогу от аэропорта до вашего Янган-тау, за опрометчивый, как тогда показалось, выбор.
Посудите сами: после морозной, но солнечной Москвы – Уфа. Грязный снег, уныние, провинция. Уф-а…
Перевал, вечер, переходящий в ночь. Старый автобус, подпольный гул изношенного дизеля. Целина, двусторонне бегущая мимо висков, все более темнеющая, смутные очертания холмистых, чем-то поросших земель, – нерукотворный тоннель, скучная предтеча тартара. Соседи: плечи, шапки, платки – посконно, серо. Закрытые глаза на землистых лицах – то ли суровость, то ли мука.
Лишь никелированный поручень во всю длину автобуса – ярая серебряная стрела. Света в салоне, хранящем покой пассажиров, немного, но и его хватает, чтобы стрела горела. Как будто на нее, гневно летящую, нанизан весь автобус с тесными сиденьями и спящими пассажирами.
Рядом – вы, простодушный генератор водочного перегара, вполголоса, почти шепотом, но страстно расписывающий драгоценную перспективу моего санаторного отдыха, где красной нитью тянется история о чудесном лечении вашей ноги: это ведь надо! Вы даже забыли, какую из двух ходуль несколько лет назад постиг невероятно сложный перелом. (Кстати, о чудесах языка: случается, что «красная» можно применить в значении «нудная», правда, очень редко).
И расшифровывали «Янган-тау».
А я из всех трактовок – сгоревшая гора, горящая, горелая, паленая, опаленная… – оставил для себя то, что эти слова и означают: Сгоревшая гора. Хотя вам, башкирам, хочется в настояще-продолженном времени: горящая. Так и переводите с радостью и гордостью. Символ, чего уж там.
Народы, особенно малочисленные, с бедной или же, в силу обстоятельств, неглубоко запечатленной историей, как дети, охочи до символов. Так, у вас всюду Салават. А что делать, другого нет.
«Напишите мне о своем впечатлении от Янган-тау. У меня свежести уже не получается, всеми этими красотами я пресыщен от частого посещения, потому я их просто не вижу. Но вы свежая голова, вдруг увидите и скажете что-то новое. Я гарантирую вам хороший гонорар».
Вы что-то там еще говорили, а я, не желающий даже плевать на ваш гонорар, вежливо кивал. И уже, тем не менее, думал о своем впечатлении, оно началось, как это часто бывает, еще до, собственно…
Как горела ваша гора? Наверное, это был не вулкан, как-то не вяжется феерическое со стариком Уралом. Эта гора горела по-другому. Допустим, ударила молния. Не стрелой, а зигзаговой петлей накинулась на гигантский конус. Мгновение – и дымной обечайкой раскаленная змея охватила подножье. Сначала затлел почвенный слой у основания, затем огонь полез вверх, обжигая комли вековых дерев – лиственниц, елей, арчи, сосен. Могуче закоптилось и полыхнуло, не сдерживаясь боле, и дошло до вершины; и вся некогда плодородная громада, становясь прахом, поползла с гулом вниз, вздымая клубы горячего пепла, затмившего солнце, сливаясь с облаками и, наконец, вытеснив их; и дни-ночи превратились в единую душную, пыльную тьму…
Кончился ваш маршрут, вы сошли, еще раз рекламно восхитившись целебностью горы, ее пара, воды, скороговорочно повторив, что забыли, какую из двух ваших ног в свое время постигла неудача.
Но, дружище, я никогда не стал бы заниматься подобной ерундой, на которую вы меня подвигали: писать о своем впечатлении за копеечный гонорар.
Причина того, что я все же взялся за перо и небрежно макаю его в чернила моих воспоминаний, в том, что вы меня… не то чтобы обидели – вам просто нечем меня даже огорчить, – а, скажем, зацепили, так точнее.
Разумеется, я сам виноват.
А все дело в том, что я имел неосторожность кое-что поведать вам о своем происхождении, когда вы рассказывали мне о любви эстонцев к уральскому пирату, соумышленнику Пугачева, хвастаясь вашим посещением мест ссылки Салавата – тем, что проделали путь чуть ли не пешком, «от сего самого места, называвшегося ранее Шайтан-Кудейской волостью, по которому сейчас катятся колеса этого автобуса, до эстонского города Палсидски, по-старому Рогервик».
Пафос закончился словами:
«Если бы вы знали, какие это красивые места! Там в парке для нашего бунтаря стоит памятник».
Заметно, что в волнении вы порой выражаетесь не совсем литературно.
Бес меня дернул сказать, что я могу согласиться с вами в оценке прибалтийских красот, ведь там-де побывала моя мать, под занавес жизни пожелавшая посетить места предков, что она у меня «тоже» высланная в сороковые годы двадцатого столетия, только, «наоборот», из Эстонии, правда, не в Башкирию, а в Сибирь.
И тут вы вдруг спросили, прищурившись, не испытываю ли я стыда за своих соотечественников, после того как они «вандально» распилили Бронзового Солдата, при том не изменяя своей небесной любви к Салавату.
Я от души рассмеялся, впервые за всю дорогу: нет, не испытываю.
Во-первых, понятна любовь чухонцев к бунтовавшему против русской царицы, то есть против самодержавия, и даже их умильно-трогательное возвеличивание некоторых своих исторических низостей периода Второй мировой – назло бывшему хозяину. Заодно и в угоду хозяину нынешнему. Но это к слову. Об извечном уделе карликовых да и просто слабых стран, которые вынуждены копаться в своем небогатом историческом скарбе и пялить на себя черт-те что, пусть даже безнадежно траченное рядно, и украшать лбы нелепыми цацками, пусть даже свастиковыми, – для того, чтобы исключить похожесть с недавними колонизаторами.
Во-вторых, я себя никак не отождествляю с теми, кого вы торопливо записали мне в соотечественники: моих родственников по материнской линии даже эстонцами-то не называли. Прибалты жили в одном поселении с ленинградскими финнами, и их в нашем городе, заодно, называли также ингерманландцами, а точнее, исковерканным – ингермалайцами. Эта линия в моем воспитании намеренно не очерчена моими же родителями, там им было удобно или безопасно, или они не хотели «раздваивать» своего ребенка, который был у них единственным, или что-то еще, неважно.
Словом, пусть пилят, кого не любят, и пусть любят, кто их пилит, – я пытался шутить.
Вы взгрустнули, и сказали «глубокомысленно», осуждающе глядя на меня, что все беды на земле от беспамятства.
И я заскрипел зубами.
Вы продолжали говорить. Насчет того, что нельзя распиливать историю «где нужно», а потом «как нравится» склеивать ее куски – история за это непременно нашлепает им же, «безответственным портняжкам», пендалями детей-вандалов, родства непомнящих, и тому подобное. Что возвеличивание бунтарей и предателей – это подводная мина, которая рано или поздно срывается с проржавевших тросов, и в данной связи даже вспомнили генерал-аншефа Бибикова, сказавшего, что важен не Пугачев, важно общее неудовольствие. Вы применили это в том смысле, что в спорных памятниках спит скользкий зародыш сомнительного будущего… И так далее, чтоб вы провалились.
О, ваша философия только прибавляла моему раздражению – всем, всем, во главе с вами, странно меняющего в речи корреспондентскую штамповку чуть ли не на блатное арго и в завершение подбивающего фразу философским изыском. И очень хотелось стряхнуть с себя вашу похмельно-задумчивую грусть, заквашенную на истории и на ее трактовках, смрадно живущую в перегаре ваших вздохов, плывущую в серости салона, пассажиров и заоконной мути. Нестерпимо вдруг захотелось ухватиться за ярый поручень, расшатать его, вырвать из всей этой пытки и улететь на звенящем копье куда-нибудь в Древнюю Грецию, залитую солнцем…
Стоп.
Итак, мой новый знакомец-папарацци, давайте, я лучше развлеку вас и расскажу, действительно, о греках. После чего, надеюсь, вы, провинциальный инквизитор, возросший на климатической суровости и исторических дефицитах, огорошитесь тысячелетним светом заморских баллад и, восторженно ослепленный, наконец перестанете тянуть из меня жилы, прекратив свои упреки…
Но мое греческое «давайте» появилось потом, когда и след ваш простыл (я силен задним умом). То есть позже вашего выхода вон из мрачного автобуса, где вы оставили меня одного за несколько ночных километров до моего санатория, сунув мне в руку свою визитку с золотистым орнаментом – будто вы не корреспондент, а главный редактор (кстати, не все и «степенные» ученые, к коим можно отнести и вашего покорного слугу, заводят такие кричащие карточки). Поэтому о греках – позже. К тому же, о балладах – это я для красного словца, чтобы уйти от мышиной серости, в которой протекала наша беседа; не будет никаких баллад, простите, что обнадежил…
А санаторий, дружище папарацци, – какой облегчающий контраст! – действительно, как вы и обещали, показался ночной зимней сказкой, в которую я вошел всего через минуту после мрачного автобуса.
Мерцающее княжество, застывшее в январском мороке, как световая колба, обложенная смутными вершинами, буграми, лесными стенами, замершее в разноцветном снегу и слабом, невесомом, теплом морозе. Невысокие строения, будто части крепостной стены, сложенные из крупных пластин с четкими углами, с благородным господством густых колеров: ультрамариновый, безупречно-белый, вишневый. И, конечно, зеленый (масть пророка), который кажется всего лишь частью хвойного изумруда, подсвеченного низкими фонарями и спящего в ночных соснах, проросших там и сям сквозь рельефное тело курорта.
Прежде чем зайти в приемное отделение я долго стоял на тропе, означенной цепочкой млечных огней, силясь увидеть, угадать «Горящую гору» – чем она выдаст себя? Грозным ли очерком главной вершины и облаком пара над ней? Или ее разоблачит сама архитектура санатория, зодческими чудесами рисуя восторженный вектор к титульному пику, не оставляя других вариантов взгляду чужака?.. Тщетно, очерки ночных далей размыты, небо, как мутное какао, без оттенков, и нрав архитектуры умиряющий, а не зовущий.
Оттепель. Сверху, рядом и в отдалении, то и дело срываются рухляди снега, спрессованного теплотой крыш и собственной сыростью. Мне его по большей части не видно, но слышно. Восхищаюсь тем, кто придумал, рассчитал геометрию кровли так, чтобы снег не скапливался сокрушительными горами на плоских лотках с режущими кромками, волнорезно секущих мокрую шугу. Которая, набрав массу, необходимую для преодоления трения, несется с шумом по крыше и через секундную паузу с грохотом свергается на землю – и кажется, в этой паузе вечность – ожидание падения, предчувствие удара (зажмуриваюсь, втягиваю голову в плечи), грохот и – тишина.
Извините, отвлекся. Итак, о греках.
Вы знаете, что представляют собой кавказцы в общежитиях, когда их хотя бы небольшая стайка? Если говорить вообще, то они держат в тонусе тысячу джентльменов, которые отличаются от «земляков» тем, что у них, «благородных мужчин», атрофировано чувство стадности, и потому каждый сам за себя. Но когда «дело доходит до дела», тогда, как выясняется, и за себя-то не у всех благородных получается – и в этом ничего удивительного: ведь ясно, чем оборачивается война с коллективом, пусть даже маленьким. В лучшем случае – ничем.
В нашем студенческом общежитии присутствовало подобное компактное сообщество – греки. Они были не в полной мере греками, у них, смешно вспомнить, даже не было собственно греческого языка, они даже не знали, что это такое, да-да, я вам расскажу, если уж начал.
Их было человек пятнадцать, грузинских греков, то есть выходцев из Грузии. Повторюсь и расшифрую: это не те греки, которых мы с вами знаем по картинкам, не стройные, изящно-мускулистые, светлокожие и кудрявые. Нет, более всего, как мне казалось, они походили на смесь грузин и турок. Очень смуглые, черноволосые, приземистые, с вечной щетиной на лице. Спроси вас про такого: угадайте, мол, кто перед вами; и вы, не задумываясь, ответите: лицо кавказской национальности. Типично грузинские имена: Зураб, Вано, Илларион, Котэ… Родной язык – смесь турецкого с азербайджанским, вот так, и не иначе. Винегрет-с, согласитесь!.. Но те, самые что ни на есть типичные по облику и манерам кавказцы, тем не менее, называли себя с преувеличенным, нам казалось, достоинством: греки. Полюбопытствуйте у такого Зураба: кто ты, о, мужчина? И мужчина с удовольствием отчитается, грубя голос и непроизвольно откидывая голову назад: «грэк!».
Какими-либо выдающимися способностями наши греки не отличались, и, скорее, не потому, что все они были сельские жители, что называется, народ, спустившийся с гор, просто такая вот случилась подборка. В учебе многое списывалось на их «иноземность», при том, что русским они владели не хуже нашего, хотя бы потому, что школу окончили русскую, а не грузинскую или, скажем, азербайджанскую. Но на экзаменах горцы начинали едва ворочать языком, изображая сильнейший, просто фантастический акцент. Ну, и так далее, думаю, это вам знакомо – разумеется, я имею в виду не ваши способности по части выдавливания, то есть выпячивания из себя акцента с целью получения дивидендов, нет, вы произвели впечатление как раз другого человека.
Греческую группу, в целом мирную и в то же время очень дружную – один за всех и все за одного, – в шутку и без шутки называли «могучей кучкой». Если бы возникла задача придумать для этой кучки лозунг, то самым подходящим были бы слова из песни: «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути!»
Одним из любимых занятий на ниве развлечения у греков было следующее: расположиться возле общежития в кружок и с помощью переносного магнитофона демонстративно слушать гения квази-оперного вокала Демиса Руссоса, самого знаменитого, на взгляд «могучей кучки», грека. Причем «кучкующиеся» искренне полагали, что этот визгливо-пронзительный толстяк поет на их родном языке, точнее, на языке их предков, славных и далеких, на языке, которого они не знали и, как следствие, просто не могли угадать на слух.
Когда знакомый грек Илларион, поймав меня за рукав, похвастался: «Слушай! Почувствуй, какой наш великий грек, какой у нас красивый язык!» – я был поражен и в ответ не мог вымолвить ни слова, только молча улыбался (наверное, растерянно и глупо), слушая «From Souvenirs To Souvenirs». Мне было так смешно, что я просто испугался. Да, испугался того, что, засмеявшись, обижу до глубины души всех греков вместе взятых.
Илларион отличался от собратьев тем, что был высок, у него были голубые глаза и волнистые волосы. Он активно занимался культуризмом. Этакая груда мышц. Красавец. В моем понимании, от греков ему хоть что-то досталось.
Почему я так иронизирую? Отчасти потому, что как раз в то время у меня была девчонка (или, как тогда говорилось: у меня был роман с…) – девчонка со славным и редким для той эпохи именем Анфиса и, что немаловажно для моего повествования о греках, со средиземноморскими, я бы сказал, параметрами – статью и ликом: изящная, кудрявая, с черными навыкат глазами, а нос и подбородок… Впрочем, буду краток, а то я перед вами как соловей. Словом, Анфису я называл «Эллады дщерь». Ей это нравилось. Зачем инверсия супротив обычного, и почему дщерь, а не дочь? Не отвечу, ибо ответ будет бедным и бледным, у каждой влюбленности свои закорючки.
Вот и сравните теперь коренную сибирячку, носящую греческое имя «Цветущая», эту Эллады дщерь – с коренными кавказцами, номинальными «грэками». Возможно, улыбнётесь; а нет – так и не в анекдотичности внешних контрастов суть моего повествования.
К слову, и я в этой моей истории был своеобразен. Север сказался в моих генах: я был, как и сейчас, строен, голубоглаз и светлогрив, а не седовлас, как теперь. У меня были подвижные оленьи ноги, длинные жилистые руки, я занимался боксом, хотя моей стати больше подходила бы, допустим, легкая атлетика или, извините, балет. Меня прозывали по-разному: и «Баттерфляй», и «Левый аист», и «Белый шмель», и даже «Кобра». Догадайтесь, почему?.. Я летал, порхал по рингу, и клевал, и жалил. Только что не жужжал. К тому же, я левша. Правой рукой я играл, как змеей, отвлекая противника, а бил левой. Меня можно было одолеть, только если я пропущу сильный удар, что случалось редко. Я бы, думаю, достиг больших успехов, но распрощался с этим спортом еще в студенчестве.
Градус моей любви к Анфисе стал стремительно повышаться с тех пор, как она мягко оповестила меня, что вскоре нам предстоит расстаться.
Нет, давайте по порядку. У нас с ней была игра. Допустим, мы спорили о чем-то. И если дело доходило до того, что нужно было признать мою правоту или ее неправоту (что, строго говоря, не одно и то же), то она вдруг делала собой весьма трогательный жест – снимала очки (она была слегка близорука), закрывала лицо ладошками и умолкала без дальнейших движений. В этой позе читалась смиренная обида, или, точнее, кротость, замешанная на несогласии, возникал некий крепкий узелок, который требовал одного – чтобы его, простите за штамп, разрубили. Я подходил и отрывал ладони. Из-под ладоней – знакомый фыркающий смех, взрыв смеха. Но однажды, против ожидания, там обнаружились слезы. Тихие, непонятные. Это потрясло меня, как удар в челюсть.
Почему «вскоре предстоит», а не «давай расстанемся»? По ее версии, потому что иссяк ее интерес, или, если угодно, закончилась любовь ко мне. А любви новой, к кому-либо, еще не случилось. Когда произойдет этот знаменательный случай – неведомо. Но ей было точно известно, что обижаться мне не на что, потому что друзьями-то мы точно останемся, и пусть наша кратковременная влюбленность будет общей светлой страницей в наших судьбах… Мне казалось, что она была совершенно искренна со мной, в этом вся беда. Оттолкни она меня грубо, жестко, уйди открыто – я просто махнул бы ей вслед, возможно, даже обругав последними словами, как порой бывает. А тут…
Мы продолжали гулять по городу, это была теплая осень, она серебрила рассветами, золотила закатами, шуршала палыми листьями и шелестела редкими парными дождиками. Рядом со мной шла Анфиса, такая воздушная и свободная теперь. Да, именно такой она стала казаться после того, как известила меня об окончании моего сезона. Теперь я осознал давнюю истину, что уверенность притупляет зрение, а угроза обостряет взор. Я стал замечать морщинки на лицах старушек, идущих мимо, кота на крыше (спина дугой, глаза-фонарики), задумчивый взгляд за мутным стеклом несущегося мимо троллейбуса, слышать, как трется березовая ветка о карниз, как кричит мальчишка, бегущий за мячом… Иногда я намеренно отставал от Анфисы на несколько шагов, чтобы рассмотреть ее след на какой-нибудь пыльной или влажной тропинке. Казалось бы, что там выглядывать, один и тот же протектор, но каждый след печатался по-новому, рожденный в оригинальном соседстве листьев, капель, камней, чужих следов и моих настроений.
Мне позволялось идти рядом, а по сути – следом, пока. Я наивно полагал, что смогу, успею, пока она не «определилась», сотворить над собой нечто такое, что позволит ей увидеть меня иными глазами, и на старых дрожжах восстанет что-то доселе невиданное в любовном мире. И я двигался следом, иногда намеренно след в след, с горькой покорностью; это когда в груди печет от неутолимого огня, надеешься на выход, но не знаешь его…
Дружище, я вдруг поймал себя на мысли, что мне в трактовке «Янган-тау» все больше нравится не «сгоревшая» или «горящая», а «горючая» – «Горючая гора». А там недалеко и до «Горькой». Поэтично, не правда ли? Наверное, никто это так еще не переводил, и я буду первым.
Люблю быть первым. И последним. Но это, как вы поняли, шутка.
Теперь, выходя на прогулку, Эллады дщерь перестала пользоваться очками (носила их в сумочке и водружала на свой греческий нос в крайнем случае), стремилась нарядиться в необычные одежды, вышедшие из моды, из сезона, а то и вовсе напялить на себя какую-нибудь мешковину, нацепить на одно ухо огромную блестящую клипсу, облечь шею крупными негритянскими бусами из фальшивого янтаря, прибавьте сюда кудри и выпуклость очей, и ходить по городу этакой рогатой яловкой, крашеной под зебру, близоруко пяля коровьи глаза на окружающие предметы, ища в обыденном очарование… Да, учтите в описанной карикатуре и слугу, плетущегося рядом-следом…
Анфиса и раньше испытывала неодолимое влечение к необычной натуре, а вскоре, после того как я открыл в ней повышенную смелость и любознательность (следствие ее освобождения от меня), она ровно ошалела. Мы с ней стали ходить на экзотические представления, где собирались невообразимые оригиналы и неформалы, завели там странные и даже сомнительные знакомства, участвовали в нескольких массовых действах: купание в освященных лужах, танцы вокруг магического огня с раздеванием, поедание целебной глины, целование мощей, и прочая разнузданная глупость. Пару раз курили марихуану, что уж не вписывалось ни в какие рамки.
Мало того, Эллады дщерь стала считать себя обязанной вмешиваться во все, что покажется ей интересным, достойным внимания. Например, она могла подойти к любому уличному художнику, отвлечь его от работы, прервать лектора, остановить уличного бегуна, похвалить или опровергнуть, а то и обругать любого. Но это невинные шалости. Ужасна суть: ведь она стала находить в подобном вмешательстве в чужую жизнь наслаждение, свою веселую музу, считая себя правой требовать, влиять, менять… Во всем этом ее агрессивном интересе к окружающему чувствовалось предвестие чего-то великого, проявления какого-то яркого творческого устремления, зарожденного в исподнем, которое скоро материализуется, взорвется вулканом и озарит окрестности, весь мир, удивляя его и, возможно, покоряя. Вот-вот, еще слегка, еще грош – и после этого взрыва, уже гудящего где-то в недрах, я отлечу вверх тормашками.
И я, боясь такого конца, цеплялся за нее, Эллады дщерь, чудесницу, вдруг мне удастся уцелеть, ведь еще недавно я был ей родным – неужели возможно напрочь забыть родство, не оставив, хотя бы на память, ни капли? – а ведь мне, может быть, достаточно капли!.. Я чувствовал, что курки взведены, вот-вот слетит предохранитель, ударит боёк и раздастся выстрел-фейерверк, да не один, а дуплетом, и вторым-парным буду не я.
Доведенный до отчаянья, до бессонницы, до разговоров с самим собой, однажды я спросил ее: когда же ты, наконец, уйдешь? Поставь мне какое-нибудь условие!
А она, смеясь, чувствуя свою власть надо мной, сказала: давай договоримся, как только проиграешь свой боксерский бой, я уйду, так будет легче, без объяснений и лишних прощаний.
Ну, вот и хорошо, вздохнул я с облегчением и…
И, что называется, ринулся в бой. Я знал, что рано или поздно проиграю, но страстно желал, чтобы это произошло как можно позже. Выходя на ринг, я бился изо всех сил, зная истинную цену бою, и побеждал за явным преимуществом, иногда нокаутом. Тренер был в восторге и строил планы невероятных масштабов, не понимая, что я работаю на допинге, который скоро подорвет меня, и я проиграю, и никогда больше не повторю таких результатов.
Последним боем на ринге была встреча с одним крепким «армейцем», к которому пришлось применить весь свой арсенал – и кобру, и аиста, и бабочку, и шмеля. Нокаутировать его не удалось, но после боя у него была «нечитаемой» вся правая часть лица, и он прижимал ладонь к правому боку – здорово я поработал, и сверху, и снизу. Победа досталась, естественно, мне. И, тем не менее, это, как я уже сказал, был мой последний официальный бой.
И вот почему.
На тех воскресных танцах, которые, как обычно, проходили в холле нашего общежития, Илларион – конечно, он, а зачем же я, по-вашему, морочил вам голову греками? – тот самый Илларион пригласил мою (еще мою) Анфиску на танец. Надо ли уточнять, что на танцплощадке пронзительно визжал греческий соловей: «I’ll Be Your Friend».
Все бы ничего, но последовало второе приглашение и третье. Эллады дщерь не отказывалась и, тем более, не просила у меня разрешения – к тому времени в этом уже не было необходимости.
Но для окружающих, в тех наших понятиях, назойливые приглашения выглядели уже беспардонностью. Это унижало меня. Все смотрели на Белого шмеля с сожалением. «Goodbye My Love!» – плакал великий грек.
Короче.
Куда-то делась Анфиса. Как выяснилось после, поднялась к себе на пятый этаж.
Я подошел к «грэку» и спросил так, чтобы слышали многие: один на один? Грек ответил: «Конэчно!» – сказал радостно, как будто давно ждал моего вызова. Мы вышли.
Это было неслыханно: вызвать грека на дуэль. Иллариона, эту груду мышц, кавказского яка, подпертого отарой верных земляков. Но неповоротливую, красующуюся собой гору мышц я, Левый аист, как раз и не боялся; а насчет земляков был уверен, что они не посмеют нарушить «один на один», заказанный на глазах у всех. Разве что по-азиатски отомстят потом. Но в тот момент перспектива закулисных неприятностей не пугала, мною овладел нерационально-возвышенный кураж, заквашенный на рыцарской решимости, – бесперспективность обладания, но необходимость остаться мужчиной.
Едва наш грозный культурист попробовал достать Шмеля своей правой кувалдой, как сейчас же получил в нос моим левым жалом. О, это знаменитое зрелище – гора мускул с кровоточащим носом, говорю вам как бывший light heavy-weight.
Издеваясь, я выкрикнул: «Be careful, I’m boxer!..» – чем привел в восторг публику и в ярость Иллариона, потому что он ничего не понимал и видел, что это его непонимание доступно всем, так же, как всем «понятно» его окровавленное сопло. Я порхал, как бабочка, он рычал, как медведь, и двигался соответственно.
Но мой баттерфляй продолжался недолго. Вскоре я, безупречно сосредоточенный по фронту, получил несколько ударов сзади: сначала по затылку, потом по почкам и, наконец, по ногам. Я подломился, упал навзничь, ударился спиной и головой, сбил дыхание, но быстро пришел в себя, собрал глаза в кучу, огляделся.
Вокруг были они – кавказское стадо. Меня приподняли, держа за руки, Илларион подошел и врезал мне сначала в солнечное сплетение. Я согнулся, однако потом с трудом, но гордо распрямился. Тогда – или, точнее сказать, «за это» – получил по лицу. Я тоже закровил, но, в отличие от Иллариона, ртом… Были зрители, как я упомянул, в том числе те, кто, перегнувшись, смотрели из окон; но никто не пришел, не встал на мою сторону.
Культурист поднял руку: хватит! Стадо отпустило меня, вернее, бросило на землю. И бык спросил, нависая над шмелем:
«Будешь еще обижать грэка?..»
Так и сказал, издеваясь, запихивая углы носового платка в свои бычьи ноздри.
Я сел, упершись руками в землю, разбросав ноги в стороны. И сказал, плюясь красной слюной:
«Вы не гордые кавказцы, вы не греки, вы – азиатское стадо, горные гибриды!»
Стадо вероломных гибридов, не стыдящихся бить сзади и кучей, задохнулось в одном порыве, зашевелилось, закорежилось от моей отчаянной смелости. Всё вокруг затихло, прямо космическая тишина в безвоздушном пространстве.
А я добавил, хрипя от ненависти:
«А Демис Руссос, про которого вы, двоечники, скоты туфлекопытные, говорите „наш“, – он совсем не ваш! И поет он по-английски и по-немецки. Но не по-гречески!»
И выдохнул последнее, сплюнув Иллариону под ноги:
«А ты – не мужчина».
Все думали, что меня затопчут. Но оно, горно-азиатское, хронически небритое множество стояло пораженное…
Опускаю подробности, дружище папарацци, скажу только, что с тех пор у меня установился непререкаемый авторитет «мужчины».
Пока я ездил домой, чтобы немного отлежаться: обычное дело для боксера – унять гул в голове от легкого сотрясения мозга и промыть брусничным морсом подбитые почки, – Анфиса «ушла к Иллариону». А вы думали, что после того, как я стал героем, пусть нокаутированным, то Анфиса – ах, ах?.. Ваш вариант выглядел бы красиво, но, увы! Бывают, конечно, чудеса, однако, согласитесь, они случаются редко.
Да и, в конце концов, что дороже чести мужчины, старина папарацци! Вы не хуже меня знаете, что честь стоит очень дорого. Иногда она стоит целой жизни.
Как в случае с Илларионом.
Который имел честь встать на защиту обижаемой хулиганом женщины, совершенно посторонней, кстати, что, несомненно, есть рыцарство. За что получил нож в брюшную область. Типичная плата за роскошь, коей является честь. (Извините, «честь-честь» – зачастил, как весенний щегол на репейной ветке).
А дело было так. Особым местом в свиданиях влюбленных, Иллариона и Анфисы, стала темная улица недалеко от общежития. Гуляя по окрестностям, возвращаясь с танцев, с кино (никаких неформальных сборищ – что вы, с кавказцем это не проходило!), они, перед тем как зайти в наше общее жилище, под занавес, так сказать, дня оказывались в начале этой улицы, у длинного, как крепостная стена, дома – непременно, как по расписанию. Я ведь уже говорил, что у каждой любви свои бзики. Здесь мнимый грек прислонял кудрявую пассию к стене, упирался ладонями в кирпичи возле девических плеч и целовал ее, похожую на эллинку, долго и страстно.
Там это и случилось. Поздним вечером, почти ночью. Всего через месяц после того, как я остался один, а их стало двое.
Когда они целовались у той самой стены, неподалеку в темноте закричала женщина, зовя на помощь. Грек поколебался, уговариваемый Анфисой не вмешиваться, но гордость не позволила поступить иначе, как побежать в темноту на крик…
Минутами позже она, «похожая на гречанку», в том самом темном пятне улицы и нашла своего «непохожего на грека», сидящего на тротуаре, прижимающего ладони к боку. Рядом стенала перепуганная женщина, причина переполоха.
Говорят, грек в Анфисе души не чаял, и все могло бы закончиться свадьбой. Могло – бы. Хотя уверенности в этом у меня до сих пор нет. Простите меня за пошлость, я имею в виду слова о перспективе свадьбы.
Самое интересное в том, что раненый грек, лежа в больнице, в температуре и бреду, обихаживаемый родственниками, прилетевшими из Грузии, и Анфисой, позвал меня.
Когда я подходил к больнице, там на двух-трех скамейках сидела вся греко-кавказская компания, вся «могучая кучка». Они были не такие, какими я их знал прежде, совсем другие, невероятно иные; даже не знаю, как выразить словами их переменчивость – свершившуюся, невозвратную. Одни – в солнцезащитных очках, казалось, философски запрокинули головы к небу; другие – опустивши руки, устало смотрели в сторону и вниз, словно труженики с лубочных картинок в стиле романтического реализма; третьи – устремили взгляды на меня, какие-то внутренне поющие, успокоенные. Возможно, все они впервые осознали, что такое настоящая мужественность, какова ей цена, и задумались, стоит ли примерять на себя ее белые и такие рискованные, оказывается, одежды. Все издали покивали мне довольно приветливо.
Когда я зашел к Иллариону в палату, в которой он лежал, как тяжело больной, один, у него была только Анфиса. Мы просто поговорили о том, о сем. Он ведь пригласил меня для того, чтобы показать: вот, мол, я мужчина, ты тогда был не совсем прав, а оно видишь как, сейчас уже никто не скажет, что… Наверное, в таком роде все крутилось в его температурящей голове. Во всяком случае, он был возвышен, одухотворен, пылал. Конечно, плюсом к этому огню было его физическое горение.
Поговорили вот так, ни о чем, и Анфиса вышла за какой-то микстурой, а мне было пора. Я поднялся со стула. Тогда грек сказал, почему-то виновато улыбаясь, что его «ужалила какая-то змея». Хотел показать, но двигаться ему было трудно, и он скосил глаза вниз, где лежали его большие руки поверх простыни, пояснив: небольшой укус, справа от пупка…
Он заговорил быстро, и это была тривиальная сцена: умирающий прощался, прощал и просил прощения. Просил, чтобы я «поддержал Анфису хотя бы в первое время», что он мне теперь не соперник, и чтобы я не обижался на нее.
Я отвернулся, чтобы уйти, избавиться от этой бульварщины.
Он спросил мне в спину:
«Я грэк?»
Я ответил уже у двери:
«Ты грек. И над тобой витает Ника, богиня Победы».
Он слабо улыбнулся и поднял глаза к потолку. И отвернулся – не всем телом со смертельным укусом, а только отвел голову – мне показалось, что в глазах блеснуло. Да, скорее, показалось. Погода была хорошая, солнечная, лучи проникали сквозь желтые занавески, и всё в палате чудилось омедненным и поблескивало…
Что вы там говорили про Бронзового Солдата? Не знаю, почему я вспомнил…
Я выполнил последнюю волю Иллариона, не всю, увы, но в той части, где он просил поддержать Анфису «в первое время». Мы вновь сблизились с Эллады дщерью, и это была дружба, пусть странная, но, наверное, настоящая, так, во всяком случае, казалось. В наших отношениях была печаль, которая возвышала эти отношения. Мы уже избегали шумных компаний и соответствующих заведений, большей частью сидя в театре, где смотрели драмы и трагедии, гуляли по улицам, обходя тот переулок, на котором состоялось злополучное свидание, где Илларион защитил незнакомую женщину, чтобы в глазах дамы своего сердца остаться мужчиной.
Кое-что запомнила та самая до конца жизни напуганная женщина. Несмотря на то, что хулиган и, как теперь ясно, убийца был в маске – в капроновом чулке, женщина смогла хоть как-то описать насильника, его рост и даже дыхание. Да-да, вдумайтесь – дыхание! Из студентов, косяком поваливших записываться в дружинники, создавались пятерки. Мы (мог ли я избежать той общей участи?) обходили улицы, угрюмые, сосредоточенные, возвышенные, в те вечера мы никого и ничего не боялись. Когда нас первый раз инструктировали в милиции, нам показали ту пострадавшую женщину. Она волновалась, заикалась, рассказывая, описывая «того самого», и, о Боже, имитировала его дыхание, откидываясь на спинку стула, закрывая лицо ладонью, охала.
Однажды во время вечернего рейда нашей пятерке показался подозрительным один молодой высокий человек. Мы окликнули его, он кинулся бежать, мы – следом. Все отстали, но я настиг его, не столько потому, что хотел его догнать, а скорее потому, что он зацепился за что-то ногой и упал. Отполз спиной вперед, затравленный, встал, прислонился к стене.
Я готов был бить его и даже привычно занес свой правый кулак, чтобы ударить левым. Но остановился, после того как он прошептал:
«Извини, я просто испугался!»
Я стоял напротив него и тяжело дышал, боясь, что мое дыхание сейчас похоже на то, что изображала женщина; хотя при чем здесь этот парень, который ее не слышал?
Я спросил его:
«Страшно?»
Он огляделся:
«Очень!..» – и обморочно закрыл глаза.
Я повернулся и пошел прочь.
Подобных случаев было несколько. Кого-то задерживали, водили на опознание. Потом все закончилось, сошло на нет.
Греки ходили еще группой, «могучей кучкой» в полном составе, но потом и они куда-то исчезли, распались, как будто лишенные ядра и вяжущих веществ. Опасными, хотя и такими красивыми, даже великолепными, оказались белые одежды мужественности – как саван, в котором уходил в песню и будущие тосты их яркий друг, – что… что растворилось оно, слывшее стадом…
Так прошла зима, в течение которой Эллады дщерь, казалось, жила как лунатик: сонной ходила на занятия, сонной гуляла со мной. А вот весной, не ранней, а уже разнузданной, когда деревья в сквере студгородка, еще недавно стоявшие кривыми шпалами и бросавшие черные тени на голые тела продуваемых аллей, оделись в листья, когда зеленые тропы, повороты и ниши обители загадок и надежд сменили собой тревожную ясность, – Анфиса проснулась.
Сначала она потянула меня на футбол. И уже в этом необычном желании я заподозрил ее пробуждение, или, точнее, воскрешение. На стадионе, как я и ожидал, она наблюдала не игру, в которой ничего не понимала, а эмоции зрителей. Эллады дщерь сидела в очках, смотрела по сторонам, повизгивала от удовольствия, когда окружающая масса недовольно ревела, радостно взрывалась, неопределенно гудела. В особенный восторг ее привела драка фанатов с милицией, долго шумевшая в верхних рядах, прямо над нами. О, если бы вы видели ее, любующуюся боем: одухотворенное лицо, крепко сжатые кулачки, вскинутый подбородок – Эллады дщерь, точнее не скажешь!
Назавтра был ипподром. Те же реакции. Но к ним нужно прибавить проигрыш приличной суммы, составлявшей половину стипендии, и окончательное решение моей опекаемой записаться в конноспортивную секцию. По дороге домой она спросила меня: неужели ты действительно бросил бокс? А передумать не поздно?
Не буду продолжать, старина папарацци, скажу коротко: проснулась.
«Пора делать последний аккорд!» – так любит говорить один мой знакомый, которого я очень люблю и жалею (он соло-музыкант, саксофонист в уютном кафе, что в цоколе моего дома; я там часто ужинаю).
Когда я понял, что пора?..
На следующий после ипподрома день Анфиса повела меня к речке, там убедила выпросить у рыбаков лодку напрокат. Естественно, рыбак, тронутый вниманием, как он полагал, влюбленных, отдал нам свое судно с удовольствием и, разумеется, бесплатно, даже без залога. Мы сплавали к тому берегу и обратно. Вода была парной, а Эллады дщерь восторженной и улыбчивой. Но улыбалась она не мне, мускулистому гондольеру, а оранжево-закатному небу, реке, теплому ветерку, трепавшему ее кудри. Она упиралась ладошками в лодочные борта, закинув голову, то распахивая ресницы, то надолго зажмуриваясь, и странно дышала: делала глубокий вдох, замирала, закрыв очи, словно стараясь задержать в себе всю прелесть вечера, затем шумно выдыхала – и глаза в этот момент были пьяные, смотрели мимо меня, поверх меня, сквозь меня. А я был гребцом – продолжением лодки, весельным приводом.
И вот тогда я понял: пора… Правда, всех нот в аккорде я еще не знал, многое, если не сказать основное, сложилось по ходу музыки – импровизация, как и наша с вами жизнь.
А сейчас, дружище папарацци, для продолжения нашего с вами разговора мне необходимо отвлечься, побормотать себе под нос, иначе не получается; во всяком случае – очень трудно…
Мы пошли от рыбаков, и я попросил тебя вспомнить, как все было. Целых несколько месяцев я не задавал тебе этого вопроса, хотя в нем, тяжком для меня и тебя, все же не было ничего чрезвычайного. Тебе было трудно, больно, но я настоял: только один раз, первый и последний, вот увидишь, тебе станет легче, в полной мере и окончательно. И, чтобы раскрепостить тебя, я первым принялся вспоминать, каким славным парнем был Илларион.
И ты, покорившись мне, вспоминала и вспоминала… Ты увлеклась и рассказывала, как хорошо, уверенно, надежно было с ним. Какой смешной казалась его неосведомленность в некоторых, казалось бы, общеизвестных вещах. Как ты просвещала его, умиляясь, смеясь, восторгаясь своей учительской ролью, какие вы с ним строили планы, как ты отучала его от чрезмерного коллективизма, уводила от друзей, как те обижались, и чего стоило ему преодоление азиатских привычек. А сейчас ты коришь себя: нужно ли было творить из азиата европейца, зачем было все это переучивание, в результате которого, если проследить причинно-следственную связь, новоявленный европеец-джентльмен и пострадал, отойдя от своего хора, став не то чтобы смелей и безрассудней, но приобретя принципы, диктующие жертвенное поведение, в котором гордость не позволяет отойти, уклониться, промолчать…
Потом ты повела меня к тому дню. День был, как и сегодня, чудесным, вы были там-то, виделись с теми-то, ты научила его тому-то.
Наконец, распаляясь, ты кротко призналась мне в своем небольшом грешке: это ты сама написала сценарий и все устроила на тех танцах – и Демиса Руссоса, и ай уил би е френд, и гудбай май лав, и беспардонные приглашения, закончившиеся боем «один на один». Все это было необычно, красиво, поэтично. И просто блеск твое судьбоносное условие экзотическому греку: если победишь, то… Оказывается, ты была уверена, что он победит, не предполагала иного варианта для такого человечища, супермена атлетической гимнастики. И ты смотрела в окно, наблюдала бой и всю его переменчивость, трагичность, и болела-болела-болела, конечно, уже за него, ведь все уже было решено, а как все драматически поворачивалось, ведь я, Шмель, не хотел – о, ужас – не хотел проигрывать!..
Ты спросила меня, оглушенного (впрочем, я не выдал потрясения), не обижаюсь ли я?
«Ну, что ты!..» – только и сказал я, подбадривая тебя дружеской улыбкой.
«О, боже мой, какой же ты чуткий, верный, всепрощающий друг!» – ты поцеловала меня в щеку; и я заскрипел зубами, но ты не услышала скрипа.
Потом я долго вел тебя по городу. Ты шла покорно, нет – доверчиво. Мы оказались в незнакомом тебе здании.
«Куда мы пришли?» – смятенно спрашивала ты, а я опять подбадривал тебя улыбкой, дескать, сюрприз.
Мы двигались коридорами, в ноздри ударил запах пота, послышался звон металла, короткие вскрики. Ты заподозрила неладное, но было уже поздно.
Я открыл дверь и ввел тебя в зал. Ты дрожащими руками полезла в сумочку за очками… И вдруг увидела десятки культуристов: горы красивейших людей, совершенных тел, они, кряхтя и потея, поднимали тяжести, отжимались, подтягивались, замирали в статике, напрягая блестящие мускулы…
Ты изменилась в лице, вскрикнула и постаралась убежать, но, не зная дороги, билась о преграды, как плененная птица, и я мог не спешить, наблюдая твое смятение. Ты натыкалась на запертые двери, на людей с полотенцами, буквально попадая в объятия тел, мускулисто-упругих, теплых и влажных, и еще сильнее вскрикивала…
Я вывел тебя на воздух. Ты долго убегала от меня, но я тебя настигал, держал в объятьях, ты опять, как прежде, хрустела в моих руках, я отпускал, ты опять убегала, но уже не так отчаянно… Постепенно ты успокоилась. И это было уже почти утро, мы останавливались у ночных магазинчиков и пили воду. Здесь выяснилось, что ты благодарна мне за все, просто так, без объяснений, ну просто за все-все.
Я взял подержать твои очки и – ай-ай-ай! – уронил их, и в попытке быстро исправить оплошность наступил на них, и корил себя за неуклюжесть…
От волнений ты становилась совсем незрячей, а после Иллариона это стало проявляться все больше. То утро не было исключением, ты ослепла от усталости и потрясений. И сказала с признательностью, держась за мой рукав, словно ребенок: как хорошо, что рядом ты, друг-поводырь, не расстраивайся, дома у меня есть запасные.
И поводырь привел тебя к тому самому месту, к той самой стене, и прислонил тебя к кирпичам, почти невидящую, но такую благодарную, теплую, близкую.
Я готов тебя поцеловать, ты готова с благодарностью принять мой поцелуй… Но вдруг ты узнаешь эту стену, шуршишь ладонями по бархатным кирпичам, озираясь, прищуриваясь, и в красивых греческих глазах твоих – животный страх, коровий ужас, как у того, которого я давеча догнал и едва не избил.
Я сковал тебя объятьями и, не давая опомниться, вспоминая нас двоих, еще тех, до твоего ухода, горячо расцеловал тебя – в глаза, в губы, в шею, как делал это раньше, но еще более страстно. Ты, Эллады дщерь, вскрикнула, завырывалась; и я тебя, конечно, отпустил, уже навсегда. Но сначала…
Я тебя ударил.
Всего один раз, но умело, чтобы у тебя потекли сразу две струйки – из правой ноздри и из правого уголка губ.
Помнишь? – у него из носа, у меня изо рта. Конечно, помнишь.
До свадьбы заживет.
Я повернул тебя лицом к общежитию, которое уже совсем рядом, на виду, и легонько подтолкнул в спину: иди, ты найдешь свою дорогу, хоть на ощупь, хоть на четвереньках, с тобой никогда ничего не случится.
Занавес…
Извините, дружище папарацци, что в предыдущих абзацах я немножко побормотал, поменяв обращение, – но так мне было удобнее.
Продолжаю.
Первую ночь в санатории я спал, как убитый, проснулся поздно; в номере, по дивану и по столу, ходили две небольшие птички, ища, чего бы клюнуть, или просто обследуя новые предметы, – видно, что они тут хозяева, а я всего лишь очередной квартирант. Окно приоткрыто, на подоконнике следы зерен и крошек – их тут подкармливают. Буду подкармливать и я, в дни, мне отведенные.
Это было воскресенье. Я вышел во двор санатория и был окружен тучей голубей, почти ручных, которых, по всему видно, можно кормить с руки, но при мне не оказалось ни крошек, ни семечек, и птицы быстро перекочевали к следующему человеку – молодой симпатичной женщине, по-видимому, башкирке, у которой из-под пальто нараспашку выглядывал белый халат. Женщина с готовностью принялась кормить голубей мягкой булкой, быстро отщипывая кусочки.
Поймав мой ревнивый взгляд, санаторская прелестница разломила булку и протянула мне половину. Я запротестовал, замотал головой. Тогда она предложила мне маленький кусочек – от этого я не смог отказаться. Я присел и вытянул руку с крошкой, левую, конечно, ведь я левша; и один голубь взлетел, опустился мне на пальцы, затрепыхался, удерживаясь, и замер надолго; и женщина засмеялась, блестя угольковыми глазами, и сказала, показывая на голубя:
«Святой дух!..»
Но позвольте, дружище папарацци! А что это мы с вами всё про меня с моими греками и о вас да о ваших с эстонцами национальных героях?
Кстати, я вспомнил еще из того, что вы говорили о Салавате: по приговору суда он был подвергнут наказанию кнутом, вырезанию ноздрей и клеймению знаками «З», «Б», «И» – «злодей», «бунтовщик», «изменник» – на лбу и на щеках.
А не хотите ли про того, которому в «греческой» истории выдалась высокая роль, а мы о нем ни слова? А ведь он, пусть отрицательный, но все же герой!
То самое дело так и осталось нераскрытым. А все, мне кажется, потому, что искали отпечатки пальцев, ножик, следы, и никто не удосужился проанализировать логику поведения героя, которого я имею в виду. А ведь многое показала пострадавшая женщина… Не кажется ли и вам странным то, что насильник не отнимал у нее кошелька или украшений, и вообще не выдвигал каких-либо требований, а лишь таскал ее за волосы. Такое впечатление, что хотел он единственного – чтобы пострадавшая кричала и звала на помощь. Если так, то мне видится в его поведении какой-то поначалу невинный умысел, скажем, розыгрыш, пусть даже мстительный… Конечно, дружище, я могу ошибаться, но если я все же угадал, то, согласитесь, сыграно было отменно, и в игре просматривается и настойчивость, и талант. Давайте на время согласимся с моей версией, тем более что нам это ничего не стоит, и наше мнение ни на что уже не влияет, но вдруг сие пригодится вам, работнику пера, для какого-нибудь сюжета (вдруг вы смените амплуа), представим, что мы говорим чисто об искусстве.
Итак, представьте, насколько сложным было тому шутнику, целыми вечерами стоя в засаде, дождаться, когда «на одной линии» в темноте окажутся четверо: он (хулиган), грек с гречанкой, какая-нибудь хилая женщина, играющая вспомогательную роль. А нож, обыкновенный перочинный, он носил просто так, на всякий случай, чтобы было чем напугать настоящих хулиганов, окажись они рядом в темноте. Ведь он полагал, что грек не мужчина, грек испугается и таким образом опозорится перед своей пассией. Но он (шутник-хулиган) ошибся. А потом запаниковал, когда грек схватил его своими железными руками, к тому же, согласно моей версии, шутник уже был за что-то на того опрометчиво-смелого грека зол, и…
Сунул грек руку в реку – рак за руку грека… Извините.
Как это ни жестоко звучит, но случай с ножом – издержки высокого искусства (вы можете со мной не соглашаться).
Однако пойдем дальше. И оценим то, что нужно было подобрать место так, чтобы грек, прояви он мужественность (что, к несчастью, и случилось), выбежал из сумрака, попал в сноп прямого света, ослеп, потом со света забежал в темноту и стал, что называется, слепым котенком. В такой конструкции даже чулок на лице был излишним, и у шутника были секунды, чтобы ретироваться неузнанным. Но шутник поскользнулся, замешкался и попал в незапланированные объятья.
Если уж завершать тему высокого искусства, то не меньшим мастерством было раскрутить воспоминания «от Анфисы», сыграть несколько символических актов-напоминаний, и коронный из них – прижать Эллады дщерь к стене и произвести нечто с двумя символическими струйками… Ах, да, это уже опять обо мне, извините, опять; но, тем не менее… Просто вырвалось – к вопросу о полноте картины, да и вообще о художественности, хотя то, что я нарисовал, это, согласен, андеграунд, поклонником которого вы являетесь вряд ли.
Ах, дружище вы мой, папарацци районного масштаба! Я ведь совсем забыл, что потерял вашу визитку! Случайно выбросил, видно, вместе с бумажным мусором, оставшимся после пирожков, которыми я перекусывал. Это стряслось, кажется, уже на моем выходе из автобуса, да-да, что-то там, припоминаю, блеснуло. Ай-ай-ай! Как же я мог забыть?.. Забывчивость и неуклюжесть, старею. Выходит, писал – все зря… Досадно, право, и – каюсь. Так мне и надо! Хотя, с одной стороны, жаль времени, но с другой – куда его в санатории девать? (Я не пью).
Вот и все. Одной рукой дописываю последние слова, а другой щелкаю зажигалкой. А что делать?.. Согласен, дружище, что все это бульварщина и пошлятина – весь мой эпистолярный монолог с сжиганием; но положение не исправить, визитку уже не найти, не копаться же мне в урне, что стоит возле автобусной остановки, да и наверняка там уже побывала машина-ассенизатор…
Не прощаюсь, потому что прощаться, увы, не с кем. Разве что с этими листками, которые сейчас превратятся в шуршащий комочек, который быстро и с удовольствием сгорит, превращаясь в черный прах на круглом блюдце, некоторое время померцает слабыми зигзагами огня, и все смоет туалетная вода. Вот вам, кстати, и еще одна Сгоревшая гора, горелая, горючая, горькая, и прочее… Согласен, аллегория невпопад, но в качестве шутки, перед сжиганием, пойдет. Может ведь человек иногда инкогнито подурачиться?..
Впрочем, минутку! Пожалуй, припишу немного для полноты картинки – это уже не для вас, папарацци, а исключительно для того, чтобы потом было о чем пожалеть – вот, дескать, какую картинку я давеча спалил!
Досадно, но, выходит, мою шутку уже некому оценить, разве что Святому духу, которого упомянула добрая женщина, подавшая мне краешек от своих хлебов.
Итак, скормив хлеб и пообщавшись таким образом со смелым голубем, многозначительно посмотрев ему в оба глаза (он успел повертеть головкой туда-сюда, балансируя у меня на пальцах), я пошел дальше.
Получилось как-то само собой, что пошел ровно за башкиркой, на небольшом отдалении, но, из баловства, норовя повторить ее след и всматриваясь в каждый отпечаток от сапожков: треугольник и точка. И так прошел через аллею – оранжево-красную, будто всю в крови, сверху донизу, от гроздьев рябины, от раздавленных ягод на пешеходном снегу – и остановился возле процедурного комплекса, где, как выяснилось позже, и происходит главное в этом санатории сакральное действо.
У входа – небольшая площадка, похожая на балкон, с которого открылась заснеженная панорама – все падающее вниз, где змеилась застывшая река, выступали коричневые щетины редких, как всегда кажется зимой, кустов и деревьев, бугрились земли, кое-где обветренные, с бесснежными проплешинами, и гривастые, в соснах, берега. Но все было – внизу и внизу; а взгляд искал вершину, запрокидывая голову, выкручивая шею.
«Где же ваша Горящая гора?» – спросил я у нее, которая тоже остановилась.
И она ответила, улыбнувшись:
«Мы ведь на ней стоим!»
И, не в силах совладать с улыбкой, спрятала ее в ладони, прислонив пальчики к губам – непроизвольное движение; и мне остались одни смеющиеся глаза, черные, как у голубя «Святого духа».
Я посмотрел себе под ноги, на следы в рябиновой крови, огляделся еще раз внимательнее. Выходит, санаторий расположен прямо на знаменитой горе Янган-тау! Значит, буквально подо мной, глубоко, гудит душа Горючей горы. Оттуда, из неутолимой преисподней, неумолимо поднимается горячий пар и достигает земли, где человека заковывают в саван из пластика и металла, и медсестра, жрица в белом, ненадолго уходит, оставляя больного один на один с Горным духом… Говорят, дух исцеляет от всех хворей, в том числе душевных.
Сколько же прошло веков, чтобы солнце, ветры, небесные воды напылили, надули, нарастили, нагуляли плодородный слой, чтобы залечились, заросли плеши и лысины Сгоревшей горы! Чтобы все вокруг зажило жизнью – изумрудной, красной, белой, летящей, бегущей, шуршащей и гомонящей… На это уложились десятки, сотни человеческих жизней.
Одной человеческой жизни на такое исцеление – мало…
И мне, Левому шмелю, захотелось, смертельно захотелось, подойти к жрице Янган-тау, этой красавице с агатовыми глазами, и оторвать ладошки от смуглого лица, и впиться в него поцелуем, запустив руку под пальто, где белый халат и правый упругий бок…
Башкирка смутилась и опустила глаза.
В это время вдруг зашумело в стороне и сверху. Оглянулся. Это стая серых птиц летела с панорамы, быстро меняя рисунок полета – то грудясь в рой, то выправляясь в линию, – и вдруг пернатые выстроились в клин и, перестав махать крыльями, понеслись на меня взводом маленьких самолетиков, распятий, норовя осенить Левого шмеля быстрой тенью. Первое желание – присесть, обхватив голову руками. Но не позволила джентльменская гордость. И я просто отвернулся и прикрыл на секунду глаза…
Вряд ли мое смущение кто-нибудь заметил, башкирка ушла.