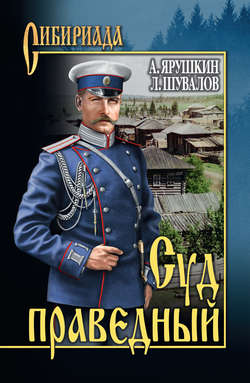Читать книгу Суд праведный - Александр Ярушкин, Леонид Шувалов - Страница 4
Часть первая
Глава третья
Будни
Оглавление1
Пыхтя и отдуваясь, паровоз подтянул пассажирский состав к станции Обь. Пустив на морозе молочные клубы пара, он затих, наконец, похожий в неярком свете вокзальных фонарей на усталого черного дракона. Прогуливающийся по перрону городовой неторопливо потирал ладонями пунцовые уши, присматривался к пассажирам, раскланивался с купцами, а то и просто со знакомыми гражданами Новониколаевска, совсем недавно ставшего пусть безуездным, но всё же городом.
Крепкий крестьянин, подвижный, остроносый, туго перепоясанный, с бородой черноватой и тоже крепкой, спрыгнул на перрон и закинул за плечо котомку. Выглядел он удивленным, видно, редко случалось в городах бывать. А при виде городового он уже за несколько шагов до него потянул с головы шапку.
– Проходи, проходи, не засть господам дорогу! – поторопил его городовой.
Крестьянин ускорил шаг, а выйдя на привокзальную площадь, торопливо перекрестился на деревянную церковь. Кажется, он уже приноравливался к городу, по крайней мере, двинулся к Михайловской улице более уверенно. Прохожих почти не встречалось, лишь припоздавший к приходу поезда извозчик с криком «Па-а-аберегись, деревня!» пролетел в легких санках, обдав оторопевшего крестьянина терпким запахом конского пота и снежной пылью. Отскочив к забору, крестьянин проводил сани взглядом и, кажется, заодно убедился, что за ним никто не следит.
У особняка с высоким цокольным этажом, под его высокими окнами, крестьянин остановился и облегченно вздохнул. На медной пластине, прикрепленной к двери, значилось: «Присяжный поверенный Ромуальд Иннокентьевич Озиридов».
Озиридов, шатен, малость уже располневший, аккуратный легкий мужчина с рыжеватой чеховской бородкой и с румянцем на припухших щеках, сидел за письменным столом в удобном и мягком кресле. По вечерам, отпустив прислугу, он переодевался в свободную бархатную куртку, выкуривал папиросу и при свете керосиновой лампы, цветущей, как желтый тюльпан, делал записи. Сейчас, например, напрочь выбросив из головы все гражданские и уголовные дела, забыв даже о давней тяжбе купца Федулова с Кабинетом, Ромуальд Иннокентьевич обдумывал статью для «Сибирской жизни», статью, в которой можно было бы осветить, и поподробнее, институт крестьянских начальников. Не торопясь Озиридов обмакнул перо в массивную бронзовую чернильницу, полуобнаженная гречанка держала амфору на коленях, и вывел: «Среди сибирских администраторов особое внимание останавливает на себе крестьянский начальник, созданный по образу и подобию российского земского начальника. Из желания создать близкую к населению власть на местах, правительство, всегда верное своим опекунским и отеческим заботам, где даже не просят, создало крестьянского начальника. Правительство и на этот раз, как всегда, думало, что русскому народу, а также и сибиряку нужнее административные помочи и пеленки, чем общественное самоуправление»…
Звон колокольчика в передней заставил Озиридова досадливо поморщиться и удивленно взглянуть на часы, которые вот-вот собирались пробить десять.
– Однако… – покачал он головой.
С лампой в руке, дивясь нежданному позднему гостю, Озиридов подошел к двери:
– Кто там?
За дверью промолчали. Присяжный поверенный, подождав, повторил вопрос. Только теперь простуженный голос, полный отчетливой усмешки, негромко продекламировал:
– Нам каждый гость дарован Богом, какой бы не был он среды…
Еще не до конца узнав голос, Озиридов с удовольствием продолжил:
– Хотя бы в рубище убогом… – и, распахнув дверь, удивленно всмотрелся в стоящего перед ним крестьянина – бородатого, с лукавыми глазами. Но главное, знающего стихи Сологуба!
– В дом-то запустите, барин? – насмешливо прищурив глаза, спросил крестьянин.
– Валерий! – все-таки узнал Озиридов старого друга, укрывшегося под столь странной личиной. Вовсе и не крестьянин! Больше того, потомственный дворянин, граф по происхождению! – Валерий! – повторил Озиридов. – Откуда ты?!
Крестьянин усмехнулся:
– Может быть, позволишь отвечать на вопросы в тепле?
– Еще бы! – спохватился Озиридов. – Входи, входи! Сейчас я тебя прямо в ванную провожу!
Присяжный поверенный смотрел на старого друга растроганно.
Валерий Владимирович Высич с ранних лет являлся единственной надеждой известного, но обедневшего дворянского рода. К сожалению, а может, и к ужасу своей молодящейся матери и не к меньшему ужасу влиятельного дяди, чиновника Министерства юстиции, Высич, не проучившись на историческом факультете Московского университета и года, был уличен в принадлежности к партии «Народная воля». Чтобы избежать ареста, он выехал из Москвы, однако был выслежен. При попытке снять его с поезда, Высич двумя выстрелами в грудь убил жандармского филера, за что и был препровожден в Якутскую область на каторгу. После восьми лет каторжных работ неустанные ходатайства дядюшки все-таки оказали некое воздействие, и Высича перевели на поселение в Нарымский уезд Томской губернии.
– Ну вот, мой друг, сейчас ты похож на себя! – улыбаясь, заметил Озиридов, когда принявший ванну Высич появился в комнате.
Погладив гладко выбритое лицо, тронув тонкие усики, Высич улыбнулся в ответ:
– Жаль бороду. Не один месяц ее отпускал…
– Голодный, небось? – спохватился Озиридов и потащил гостя к столу, на котором уже жарко дышал самовар, теснились тарелки с закусками.
Высич вдруг опечалился:
– Не боишься беглых принимать, Ромуальд?
– Беглых?
– Конечно. Не путешествую же я с разрешения жандармских офицеров.
– Ну как тебе сказать, – Озиридов усмехнулся. – Как всякий обыкновенный обыватель, я, конечно, опасаюсь, но было бы странно называть это чувство главным. И вообще, Валерий… Не задавай мне таких вопросов. Зачем?
– Не буду больше.
– Вот и ладно, – искренне радуясь появлению старого друга, подмигнул Озиридов. – Ты, должно быть, в метрополию собрался? Как у тебя с документами?
– Никак, – безмятежно отозвался Высич, приступая к еде.
Озиридов задумчиво поиграл пальцами на губах.
– Думаю, Валерий, документы я тебе сделаю, но придется с недельку поскучать в заточении. Ты уж не обессудь, городишко маленький, все друг друга знают… Мало ли…
– Мне не привыкать.
– Ну вот и славно… За прислугу можешь не беспокоиться, она к моим гостям еще в Томске привыкла.
Высич поднял на него глаза:
– Да, Ромуальд, задал ты мне задачу со своим переездом…
– Я же тебе писал!
– До Нарыма письма долго идут. А я уже больше месяца в разлуке с тамошним начальством. Ты себе не можешь представить, как мне стало грустно, когда я притащился к тебе на Почтамтскую, а дверь открыла милая, но совершенно незнакомая барышня. Она так трогательно морщила свой хорошенький носик, когда я спросил: «Энто, то ись… Азвиридов тута проживат?»
Присяжный поверенный расхохотался, представив лицо своей бывшей домохозяйки, молодой вдовы томского купца средней руки, которая так и не смогла привыкнуть к тому, что ее уважаемого квартиранта посещают столь разные и столь странные люди, а среди них даже мужики.
– Адрес-то хоть дала?
– Довольно быстро, – кивнул Высич. – Слушай, Цицерон, что это ты решил сменить место жительства? Да еще на такую глушь?
– За Новониколаевском, друг мой, большое будущее, – покачал головой Озиридов. – Думаешь, случайно половина колыванских купцов сюда перебралась? Да и томские открывают здесь свои конторы. Выгоды географического положения, мой друг, узел железнодорожных и водных путей. Даже доверенный Саввы Морозова уже приезжал участки под фабрику смотреть. А ты говоришь, глушь!
Высич хмыкнул:
– Гляжу, тебе не чужд патриотизм.
– А что предосудительного в патриотизме? – удивился Озиридов. – Наша Сибирь давным-давно созрела для самостоятельности. Хватит ей быть колонией, которую грабят все, кому не лень. Почитай-ка работы Ядринцева. Умный человек, есть смысл подумать над его словами.
– Областниками увлекся?
– Не увлекся. Убедили. Уверен, придет день, Сибирь будет процветать и без России.
– Ох, далек тот день, – вздохнул Высич. – Есть ведь и другие суждения…
– Ну да, ты скажешь сейчас – марксизм! – покачал головой Озиридов. – Наверное, сам к эсдекам примкнул. Так? Странно… Насколько я знаю, народовольцы не очень жалуют рабочий класс, а в ссылку ныне идет в основном улица. Ты же сам утверждал когда-то: только интеллигенция, только она может поднять народ на борьбу, разрушить дикую, давно прогнившую систему.
– А рабочий класс, это что – дурное общество?
– Оставь, – отмахнулся Озиридов. – Тоже мне, рабочий класс! Мы уже на крестьянах убедились, чем, собственно, является так называемый народ. Пошли к нему с распростертыми объятиями, а он-то, народ, нам и по мордасам! А заодно и приставу подскажет тот же народ, чем его «политики» потчуют. Вот возьми нашего общего знакомого Симантовского… Весь кипел, помнишь? Искал, учительствовал, просвещал народ, а что в итоге? Разочарование. Сидит, как сыч, тут неподалеку в Сотниково, горькую пьет, потому что ничего другого ему больше и не надо. Вот оно чем оборачивается, это хождение в народ. Трясущимися руками и пустотой в глазах.
– Встречал я на высылке и других, – возразил Высич. – Поверь мне, есть много людей, отлично знающих, что они будут делать завтра.
– Да уж! – усмехнулся Озиридов. – «Пролетарии всех стран, соединяйтесь, наша сила, наша воля, наша власть…» Слышали, начитались господ Минских. Кое-кто уже договорился и до заключения позорного мира с япошками. Это же надо! Желать поражения собственной армии!
– Не армии, – спокойно возразил Высич. – Царизму! Ты что, не понимаешь, кому нужна эта война? Старый испытанный способ спустить пар в котлах.
– А Япония? – загорячился Озиридов. – Ее аппетиты? Ей дай волю, она всю Сибирь у России оттяпает! В нашем поражении заинтересованы, прежде всего, англичане. Они исподтишка следят за происходящим да тех же япошек на нас и науськивают… Что? Твои эсдеки туда же?
– Мои эксдеки, Ромуальд, помнят солдат, павших в Маньчжурии… – уже суховато заметил Высич. – Это господа либералы, радеющие о русском мужике….
– Всё! Брейк! – перебил его опомнившийся Озиридов. И даже рассмеялся: – Давай лучше чай пить, Валерий! Мы же не для споров встретились! Как ты жил все последние годы?
2
Над Сотниково, разгоняя некрепкую утреннюю тишину, неслись басовитые звуки большого колокола, сопровождаемые разноголосым перезвоном колоколов поменьше. Терентий Ёлкин, перекрестившись, шагнул под сумрачные, ладаном пахнущие своды церкви. Минуя Маркела Ипатьича Зыкова, дернул бороденкой, поклонился, встал неподалеку. Зыков, не спуская глаз с алтаря, чуть заметно кивнул в ответ. Колокола стихли, и перед сотниковцами, тесно заполнившими церковь, появился отец Фока в фелони, поблескивающей серебряными и золотыми нитями. В стихаре шел за ним следом седогривый пожилой дьяк.
Ёлкин с благоговением следил за ходом службы. Когда дьякон, передав батюшке кадило, густо затянул: «Благосла-а-ави, владыко-о-о!», у Терентия по спине побежали мурашки. Нельзя сказать, чтобы Ёлкин очень уж почитал веру, но церковная служба всегда вгоняла его в трепет, заставляя задумываться над собственными прегрешениями. И сейчас, тяжело вздохнув, он незаметно скосил глаза на окладистую бороду смиренно замершего Маркела Ипатьевича и на его присмиревших сыновей.
– Отврати лице Твое от грех моих и все беззакония моя очисти, – басом тянул отец Фока. – Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего…
Отец Фока тянул и тянул низким басом, а Терентию всё казалось, что заполнившие церковь односельчане не спускают с него внимательных глаз. Он даже шею в плечи втянул, наклонив голову как можно ниже. Наконец служба закончилась.
Потоптавшись у церкви, Ёлкин дождался, пока сыновья Зыкова, похохатывая, пройдут мимо, и нагнал Маркела Ипатьевича, который, заметив шагающего рядом и явно не могущего решиться на разговор Ёлкина, поинтересовался:
– Чего энто ты извороты передо мной делаешь?
– Поговорить надоть, – все-таки выдохнул оробевший Терентий.
Зыков замедлил шаг, глянул из-под седых бровей:
– Дык говори.
Оглянувшись на растянувшихся по улице сотниковцев, Терентий поежился:
– Народ тут…
Зыков посмотрел на побледневшее лицо Ёлкина, что-то прикинул в уме, предложил:
– Айда ко мне.
Не доходя до дома Зыковых, Терентий замялся, и Маркел Ипатьевич, заметив это, осклабился:
– Сынов, что ль, опасаешься?
– Без свидетелев бы… – промямлил Терентий.
– Ох, и развел ты секреты, – посетовал Зыков, но все-таки свернул на узкую тропку, ведущую к бревенчатой бане, прилепившейся на самом берегу реки среди густого ивняка.
Задымив самокруткой, Маркел Ипатьевич повернулся к сидящему на краешке широкой скамьи Ёлкину:
– Ну… сказывай свой секрет.
Под тяжелым взглядом старика Терентий сжался, с трудом выдавливая из себя слова, произнес торопливо:
– Ведь энто твои робяты Василь Христофорыча-то…
– Подь лучше без греха! – махая рукой, отодвинулся от него Зыков. – Ты чё несешь-то? Чё придумывашь?
– Они… своими глазами видел.
– Образумься, Терентий!
– Свят Бог! – перекрестился Ёлкин. – Лёшка и приложил колом.
Зыков помрачнел, взглянул из-под насупленных бровей:
– Дык Анисим же…
– Не бил он Кунгурова, – потупился Ёлкин. – Мы с ним за Василь Христофорычем побегли, я и поскользнулся. А тут как раз твои… Я лежу, а они насмехаются. Токмо на ноги-то поднялся, пробег маленько за Анисимом, а того и след простыл. Пока кумекал, чё да как, глядь, Кунгуров откеда-то вывертывает. А тут и твои подошли. Ну Никишка подсмеялся, дескать, шибко шустро старик бегает от лапотонов. А Стёпка с Лёшкой вокруг него ходют и частушки матерны поют. Василь Христофорыч и не сдержался, врезал Лёшке по уху да щенком обозвал…
– Дальше рассказывай, – подстегнул Зыков замолчавшего Терентия.
– Дык… Тут, как на грех, кол лежал, что Анисим кинул, кады мы к становому шли… Лёшка энтот кол хвать да Василь Христофорыча и ущасливил. Я как это дело увидал – и шасть домой. Так они ж, заразы, меня из избы вытащили, чуть к анбару вилами не прищучили. Еле жив остался, а со страху и на Анисима наговорил.
Зыков, все еще недоверчиво глядя на него, сурово спросил:
– Кто ж тебя заставлял?
– Дык они… Сыны твои. Говорю же, вилами прищучили и толкуют, мол, ежели чё, на Анисима покажешь. Это же вы, мол, с ним старика гоняли… Вот и наговорил на земляка свово, – еще ниже опустив голову, ответил Ёлкин.
– А теперь-то чё рот открыл? – не скрывая досады, произнес Зыков, и его губы плотно сжались.
– Грех на душу взял, она и болит, – пролепетал Терентий. – Измучался весь. Я ж не к приставу пошел, а к вам, Маркел Ипатьевич, родителю ихнему…
– А не боишься, чё сынам скажу? – разжал губы Зыков.
Терентий дернулся всем телом:
– Побойтесь Бога, Маркел Ипатич! Я же энто, тово, худа вам не желаю… Так, ради упреждения… Не сумлевайтесь, боле никому, как рыба молчал и молчать буду.
– Ну, ну… – многозначительно проронил Зыков, медленно поднялся и, не прощаясь, вышел из бани.
Терентий проследил за скрипнувшей дверью и еще долго сидел уронив голову на грудь. Наконец собрался с силами, отер треухом выступивший на лбу пот и на негнущихся ногах поплелся домой.
3
Запыхавшийся от быстрой ходьбы, раскрасневшийся от злости, Маркел Ипатьевич ворвался в избу и накинулся на свою высохшую, с лицом странницы, на котором одни глаза только и остались, жену:
– Где энти остолопы?!
– Ушли, – испуганно перекрестилась жена.
– Куда ушли? – зло бросил Зыков, опускаясь на лавку.
– Не сказали…
– Вот же подлецы! – рявкнул Зыков, стукнув по столешнице кулаком. – Появятся, накажи, пущай дома сидят! Я в Новониколаевский, к вечеру обернусь.
Запрыгнув в кошевку, он изо всей силы вытянул гнедого «ходока» по лоснящемуся гладкому крупу:
– Но-о-о!
Всю дорогу Зыков нещадно гнал и без того резво бежавшего рысака и, лишь завидев первого городового, чуть натянул вожжи. Возле большого двухэтажного особняка с кирпичным нижним и бревенчатым верхним этажом, Маркел Ипатьевич привязал лошадь к коновязи.
Известный купец и владелец паровой мельницы Парфён Лаврович Федулов радушно встретил Зыкова. Деловые отношения они поддерживали уже давненько. Правда, раньше встречались чаще. Зыков возил товары Федулова по Московскому тракту и на Иркутскую, и на Ирбитскую ярмарки, а иногда добирался и до самой Маньчжурии. С тех пор как построили железную дорогу и Федулову стало выгоднее отправлять грузы по чугунке, Зыков переключился на маслоделие, брал товары у купца, чтобы продавать их подороже своим односельчанам.
– Маркел Ипати-ич?! Каким ветром! – Федулов раскинул короткие руки, блеснул крепкими желтоватыми зубами. – Вот уж не ожидал!
– Приехал вот… – смущенно пояснил Зыков и хитровато стрельнул глазами по широкому, заросшему курчавой бородой лицу Федулова: – Сказывали, Парфён Лаврыч груз в орду желает отправить…
У Федулова действительно завалялась партия китайского чая и он на самом деле подумывал, как бы ее пристроить получше, но время подвигалось к весне, к распутице, и желающих в такую пору отправляться к черту на рога не находилось. А продавать чай на месте Федулов тоже не хотел. Слишком уж любил Парфён Лаврыч пятидесятипроцентные барыши. И когда Зыков упомянул про «орду», он сразу прикинул выгоды такого предприятия, тут же решив воспользоваться услугами сотниковца и послать партию залежалого чая алтайским инородцам. Но виду подавать Федулов не хотел.
– Ты это о чем, Маркел Ипатич? – сделал он большие глаза.
– Дык, ваше почтение, ежели чё, я завсегда, лошаденки-т не перевелись, под какой-никакой товаришко-т саней пятнадцать наскребу.
– А-а-а… так ты об извозе, – словно только сию секунду дошло до него, о чем идет речь, протянул Федулов.
Зыков кивнул, а Федулов посмотрел на него с прищуром:
– Никак в нужду впал? Одумайся, Маркел Ипатич, какой сейчас извоз? Весна на дворе!.. Извиняй, но сам знаешь, до Рождества я обозы снаряжаю… Даже если б что и было, поздно. Обернуться никак не успеют.
– Шустрые у меня лошаденки, да и возчики не из последних. Вам ли, Парфён Лаврыч, не знать… Обернутся. Да и тает на Чуйском тракте поздненько.
– Ты не подумай, Маркел Ипатич. Я бы всегда в твое положение вникнул, да нет у меня сейчас надобности. Где я товар возьму? Всё в деле, не обессудь.
Зыков, понимая, что хитрый купец недоговаривает, поморщился, даже почесал бороду, словно раздумывая, потом махнул рукой:
– Эх-ма! Берусь по грошу за версту с кажных саней! Соглашайся, Парфён Лаврыч, энто ж полцены! Прямая выгода!
– Выгода-то она, как Бог даст, – сокрушенно вздохнул Федулов. – Торговля-то, сам знаешь, со всячинкой, того и гляди подкуют. Около вашего брата ходи да оглядывайся.
– Соглашайся, Парфён Лаврыч, а? – задорно подстегнул его Зыков.
– Ты не гони, не гони, дай одуматься… – движением ладони остановил его Федулов. – Никак в толк не возьму, тебе-то какая выгода? А потому опасаюсь. Объяснишь, будем разговор дальше вести…
По лицу Зыкова пробежала тень, и он, сделав над собой усилие, неохотно проговорил:
– Сыны мои втюхались… Надоть их на время подале услать…
– Вот это разговор! – просиял купец. – Поди, девок обрюхатили жеребцы твои? Ну да Бог им судья. Когда ты ехать желаешь?
– Так можно и завтра, – с готовностью отозвался Зыков, облегченно вздохнув.
– Завтра так завтра. Пускай парни с утра пораньше к моим складам прямиком и едут, я распоряжусь насчет товара. А чтобы обратно не зря идти, пущай к староверу Момонову завернут, это рядом с Онгудаем, у него еще медок должен остаться.
– Сколько саней-то снаряжать, Парфён Лаврыч? – довольный, что решил сразу два дела: и сыновей подальше от пристава отправил, и хоть небольшую, но все-таки прибыль поимел, спросил Зыков.
– Саней? – задумчиво почесал затылок Федулов. – Да десятка хватит.
Уже в дверях Зыков обернулся:
– Совсем из памяти вышибло. Мне же наказали узнать, который из присяжных поверенных ловчее?
Федулов вскинул голову:
– Кому это занадобилось?
– А-а! – коротко махнул рукой Зыков. – Переселенец у нас один Кунгурова жизни лишил, вот его робяты и спрашивали.
– Жаль, – протянул купец. – Василий Христофорыч основательный хозяин был…
Он испытующе впился глазами в нарочито безмятежную физиономию Зыкова. Потом, решив, что ему и своих забот хватает, сказал:
– У нас и поверенных-то – раз, два и обчелся. Мои вот делишки Озиридов Ромуальд Иннокентьевич ведет. Толковый, к тому же московское образование имеет. Пусть к нему сходят, коли рублей сто есть. Думаю, он возьмется…
4
Терентий Ёлкин пребывал в полнейшем недоумении. Чуть свет к нему постучался Зыков, вызвал во двор и вручил сто двадцать рублей, из которых сто велел передать Беловым, чтобы те наняли в городе защитника для Анисима, а двадцать – это как бы ему, Ёлкину, лично. Почему Маркел Ипатич решил его задобрить, Терентию было ясно как божий свет, и он сразу прикинул, что по весне на эти деньги купит корову с теленком, но никак не укладывалось в голове, как это прижимистый Зыков решил расстаться с целой сотней да при этом еще и наказал ни в коем случае не говорить Беловым, чьи же это на самом деле деньги. Впрочем, поразмышляв, Ёлкин пришел к выводу: конечно же, старик замаливает грехи сыновей. Уразумев это, Терентий враз успокоился и отправился напрямик к Беловым.
Ледяное крошево кружило под бледно-голубыми закраинами неровно обмерзшей проруби. Подгоняемые течением льдинки никак не могли остановиться в серой, как тоска, воде. Татьяна Белова, склоняясь над прорубью, бездумно и тяжело всматривалась в бесконечное кружение, ее так и тянуло туда, в прорубь. Как ей теперь жить? Разве забудется перенесенный позор? Все мужики теперь будут хмыкать, проходя мимо. Бабы и девки – шушукаться, кто сочувствующе, а кто и осуждающе. А парни?.. Как пережить и то, что из-за нее родной отец стал убийцей? И самое страшное, разве посмеет она теперь поднять глаза на Андрея Кунгурова? Да никогда! От одной этой ледяной, обжигающей душу мысли Татьяну с новой силой потянуло к воде. Нельзя жить с таким грузом на сердце! Нельзя! И Татьяну вдруг так и качнуло к проруби, и страх подумать, что бы произошло, не удержи ее какая-то странная, неподвластная ей сила. И, упав на колючий апрельский наст, Татьяна зарыдала громко, в голос.
Терентий, еще издали увидев замершую над прорубью девушку, брошенные рядом ведра, так и замер на месте. Но тут же справился с собой, кинулся к ней, на ходу причитая:
– Побойся Бога, девонька! Разве ж можно такое творить?! – Подбежал, схватил за плечи. – Да ты чё? И думать забудь! Грех, грех это. Нельзя! Вставай, пошли вместе до дому. И ведерки давай заберем, я вот, вишь, и воды зачерпнул. Ой, грех, девонька. Идем, идем. Всё будет хорошо!
В избе, усадив Татьяну на лавку, Терентий шумно распахнул доху, прошелся по горенке, закидывая глаза к потолку, теребя свою жидкую козлиную бороденку. Спросил наконец:
– Петька-т где?
Татьяна как окаменела. Сидела с полуприкрытыми, ничего не видящими глазами, неестественно выпрямив спину, руки, исцарапанные об наст, сложив на коленях.
– Петька-т где? – обеспокоенно повторил Ёлкин.
Вытянув длинную шею, он остановился перед девушкой, разглядывая ее, наклоняя голову то вправо, то влево, будто легче ему так смотреть. И в третий раз повторил:
– Слышь, девонька? Петька-т где?
На этот раз Татьяна услышала. Подняла голову, одними губами, тонкими, побелевшими, выговорила:
– В бор поехал… За дровами поехал…
– Энто хорошо… Дрова, они завсегда надобны. Справный парнишка растет. Отцу замена, – запел Ёлкин, но, заметив, как изменилось лицо девушки, как наполнились слезами ее запавшие глаза, как вздрогнул острый подбородок, бодренько зачастил: – Ты энто, девонька, выкинь из головы всяку пакость. Даст Бог, обойдется всё с Анисимом. Я вот тута покумекал, помочь ему надоть. Поверенного пристяжного ему бы надобно нанять получше.
– Нету у нас денег таких… – ровным голосом, словно речь шла и не об отце вовсе, проронила Татьяна.
Ёлкин зачастил еще быстрее:
– Энто, девонька, не твоя забота. Не одни, поди, на белом свете живете, люди кругом. Я, к примеру, помараковал, помочь решился. Земляк как-никак, не чужой какой. Вместе ведь с твоим папанькой в детстве раков в речке ловили. Как не помочь? Вот наскреб кой-каких деньжат, возьми, – он суетливо полез за пазуху, вынул оттуда сверток в чистенькой тряпице, развернул и протянул на обеих ладонях девушке. – Возьми, Татьяна, не побрезгуй. Сто рублев тут. Всю жистю копил, но вам нужнее. Возьми.
У Татьяны перехватило дыхание. Она уже не надеялась, что найдется в этом мире душа, которая протянет им руку помощи.
– Спасибо, дядя Терентий, – только и смогла она выговорить.
– Ничё, девонька, ничё, – по-лисьи разулыбался Ёлкин. – Разбогатеете, так небось и отдадите. Ничё… пущай Петька в Новониколаевское езжат. На улице Михайловской пристяжный живет, Озиридов, фамилие у ево такое. Должен помочь, сказывают, ловкий…
А в Инюшенском бору стояла тишина.
Пушистый снег, темный под темными зимними соснами, казалось, вбирал в себя все звуки. Лишь тренькал вдруг где-то дятел или щелкала веточка, осыпая враз струйку разметывающегося по ветру снега.
Загрузив дровни, Пётр взял лошадь под уздцы и повел к просеке. В лесу его всегда тянуло помечтать о чем-то неопределенном, хорошем, но сейчас ему и думать-то было тяжело. Не мог забыть сгорбленную фигуру отца, когда того увозили из села судебный следователь, приехавший из Томска, и урядник Саломатов. Отец крикнул, повернувшись к Петру: «Не верь!..» И по тону, по глазам, по той злой убежденности, с какой эти слова были выкрикнуты, Пётр вправду поверил – не виноват отец, не убивал он старика Кунгурова.
Но убежденность Петра, конечно, ничего не меняла.
Всё село считало Анисима Белова убийцей. Единственный человек, с которым Пётр еще мог хоть как-то говорить, была Катя Коробкина, но в последнее время он и с ней почти не виделся. Кузьма, ее отец, настрого воспретил дочери встречаться с Петром. «Ишь, кого нашла!.. Каторжное отродье!»