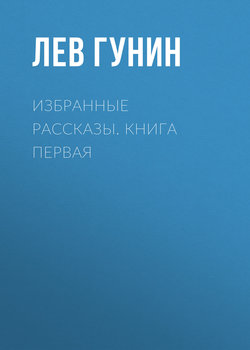Читать книгу Избранные рассказы - Лев Гунин - Страница 4
Трилогия-2. Нуклеиновая цепочка
Цепь превращений
Парижская любовь
ОглавлениеПёстрые полосы впечатлений промелькнули в высоте. Горизонт выровнялся – и в парижской квартире, в рабочем районе (полтора часа езды от центра) появилась она, самая порочная и беспутная, излучающая смрад порока и его двойникастый след – стерильную санитарную чистоту. Её острые груди под тонким свитерком, как две высшие точки непересекающихся вершин, её приторная улыбка и бесстыжие глаза – всё выражало острое изнеможение любви в её самой запретной форме, религиозный трепет вожделения – и этот запах порока. Она была развратней самой наглой в своем отроческом бесстыдстве девицы, порочней женщины лёгкого поведения (с её стаканом вина до и сигаретой после ("о трёх излюбленных удовольствиях"), растленней любой порнозвезды, изнемогающей в наркотической истоме стонов и конвульсий от эксгибиционизма и физического оргазма одновременно. Её католическое имя – Анна-Мария, – данное ей набожными родителями, – лишь усиливало эту червоточинку, этот прожигающий и читающий в мужчинах и женщинах самый слабый след вожделения взгляд. Её коротенькая юбочка, характерные для некоторых парижских молоденьких дамочек косички, ладная фигурка без малейшего изъяна, с такими невероятными пропорциями, что обещали ещё более невероятные вещи в скрытых под одеждой частях, какая-то всепроницающая открытость и простота в общении, моментально убиравшие всякую дистанцию между ней – и любым другим двуногим бесшерстным существом: всё казалось неповторимым, единственным, неизъяснимым. Когда она сказала, что занималась балетом (сказала как бы между прочим, добавив-спросив, какое движение я предпочёл бы), что-то исключительное, нехарактерное уже окутало меня своим властным дыханием, потому что я вдруг – неожиданно для себя самого – выпалил: grand battement. "Ах ты, наглец, – сказала она по-итальянски, на своем мягком семейном неаполитанском жаргоне, – но я тебя накажу за это. Вот продемонстрирую тебе его. Только без трусиков. А ты должен будешь демонстрацию отработать". Потом, когда она по тысяче раз делала глубокое plie над моим горизонтально вытянутым телом, с закрытыми глазами и постанывая от удовольствия, её колени и руки всё ещё сохраняли балетную грацию, а перед моими глазами так и стояла обжигающая невероятность того первого grand battement.
Я никогда не позволял себе задумываться над тем, что она делала между нашими встречами. Её законченная порочность рисовала в воображении разной величины приборы трёх дюжин любовников, побывавших в этом уютном тёплом "гнёздышке" до меня. Но даже если не было ни одного, всё равно её псевдо вульгарность, её податливая гибкость и наигранная изнеженность, особый жар её невесомого тела, тающего под рукой – сами по себе уже читались вызовом, изменой, зондом, закидываемым в душу партнёру с целью выяснить глубину компромисса, терпимости и готовности на всё. В своих самых физиологических позах, в самые неподходящие моменты, и днём, и ночью – она всегда оставалась законченно эстетична, не отдавая ни единого самого незначительного штриха на волю случая. Даже когда какала, когда садилась на унитаз у меня на глазах, она ставила локтями на коленки свои руки, подпирала голову ладонями – и демонстрировала задумчивую капризность – или капризную задумчивость. И потом – этот её ритуал материальной заинтересованности, симулирование выкупа за любовь, который всякий раз требовалось обыгрывать. Ей было мало стихийных, импульсивных подарков – она требовала церемонии платы, подчеркнуто делового фетиша, ролевого обыгрывания контракта. Она не желала, чтобы е й покупали; она жаждала, чтобы покупали е ё. Дитя богатых родителей, владелица добротной квартиры в этом бывшем парижском предместье (не эксклюзивном; с многочисленными арабскими магазинчиками – но вполне пристойном), – она не нуждалась ни в моих подарках, ни в билетах в театры и рестораны, которые я ей таскал. Мне стало понятно, что это умело строилась маскирующая подмена зависимости эмоциональной суррогатом зависимости материальной, и сохранение дистанции – вакцины от чрезмерной привязанности.
Иногда, позвонив снизу – и – поднявшись и найдя дверь в квартиру не на защёлке, – я заставал её у распахнутого на узенькую улочку окна, впускающего бодрящий воздух той тёплой парижской осени, с гулкими шагами приличных обывателей – владельцев стоящих вдоль тротуаров машин. Тут почти не было прохожих. Все появлявшиеся внизу, под домом, были транзитными пунктирами движения из дверей подъездов к автомобилям – и обратно. Мой виэкюль, припаркованный в неположенном месте, казалось, выделялся из всех остальных сиротливым пятном в этом море совершено другого стиля. Мне представлялось, что сейчас подбегут люди, станут плевать в него и пинать ногами. Но ничего не случалось. Даже муниципальная служба – и та ни разу не появилась, – и я так и не получил штраф: за всё время дружбы с Анной-Марией.
В окно виднелись бесконечные разноцветные дома прошлого – начала этого века, четырёх и пятиэтажные, с красными крышами, бесчисленными окнами – и кусок выразительно-глубокого парижского неба. Они напоминали мне моё польское детство, Краков, звоны кляшторов, тёмные стены старэго мяста. В то время как я приближался к ней сзади, она неожиданно оборачивалась, валила меня на диван и заставляла без всякого перехода заниматься любовью. Когда комнату уже оглашали первые звуки разгоравшейся страсти, я обычно умудрялся захлопывать окно ногой. Как правило, эти изначальные приступы любовной игры были только прелюдией. После неё Джульетта (как она себя называла) хватала меня за руку, тащила в ванную – и там мыла, как малого ребёнка, после чего сама становилась под душ, и только потом мы продолжали своё барахтанье – или противоборство. Со временем она перестала мыться со мной, приучив меня самостоятельно проделывать путь из комнаты – по коридору – и дальше. Этот путь становился для меня морально всё более обременительным – по известным причинам. Он всё чаще символизировал нараставшую между нами дистанцию и брезжащий где-то в конце этого нарастания разрыв.
Нельзя сказать, чтобы секс оставался единственным, что нас объединяло. Она была чертовски умна и начитана, эта невероятная парижская шлюха. Когда перед нашим последним соитием я выходил в том или ином её халате из ванной, она, бывало, лежала на спине с одной из своих самых последних книг. Она коллекционировала их аккуратно, поштучно, покупая все новинки, начиная литературной критикой, заканчивая работами культурологов. Потом они куда-то исчезали, и на полках в другой комнате, смотревшей во двор, оставались пустые места – как обезображенные попаданием снарядов чёрные провалы в фасадах послевоенных домов. Её любимым писателем был Жан Кокто, с пузатой книжицей какого в руке её чаще всего можно было застать. Она обожала цитировать его стихи, вырывая отдельные строки с намеренно-шкодливым видом, выхватывая бьющие по нервам слова своим чисто-парижским говорком. Как ни странно, она выдергивала далеко не игривые, а романтико-драматичные строфы, изумительно отдаляя их чтением от традиционной манеры поэта:
Ce coup de poing en marbre était boule de neige,
et cela lui étoila le coeur
et cela étoilait la blouse du vaiqueur,
le vainqueur noir que rien ne protége.
Она привыкла читать по памяти отрывки из "Орфея" Кокто – применительно к ситуации. Когда на журнальном столике появлялась бутылка, она декламировала:
ANCIEN POETE
Qu'est-ce que vous boirez?
ORPHEE
Rien merci. J'ai bu. C'était plutôt amer…
Vous avez du courage de m'adresser la parole.
Из итальянцев она всем предпочитала Данте, хотя хорошо знала и современных поэтов, особенно неаполитанцев. Иногда, чтобы досадить мне, она принималась читать их вслух, зная, что я половину не понимаю по-неаполитански. Раздражавшее меня поначалу её намеренно быстрое щебетанье постепенно начинало возбуждать, и через какое-то время мы уже барахтались в одной из её комнат, стараясь доставить друг другу как можно больше работы и усилий. В перерывах мы обсуждали Ясперса и Сартра, загадку Мориака, влияние Флобера на французскую литературу, место Арагона во французской поэзии, эзотеризм Аполлинера и его сонористическую близость Т. С. Элиоту, феномен Бодлера, отдельные стихи Бертранда, Нерваля, Орлеана, Валери, Вийона, Тардю, Сэн Амана, Ронсара, Римбо, Осмонта, Лабе, Бретона, Элюара, Фуре, Жибрана, Виньи, пока не утопали в очередном споре о Верлене и Малларме, из которого был один выход – приятный для нас обоих. Уступая мне место под душем, она прижималась ко мне всей поверхностью своего изумительного тела, нежно прикасалась к моей коже губами и шептала из Данте: "Quando si parte il giuoco dellazara, Colui che perde si riman dolente, Ripetendo le volte, e tristo impara: Con l'artro se ne va tutta la gente" ("Когда партия игры в кости окончена, тот, кто болезненно проиграл, повторяет (переигрывает) все заново в грустном одиночестве"). "Когда ты уйдешь, я буду мастурбировать, переигрывая всё сначала, – признавалась она. Тем самым она оставляла меня в лихорадочном нервном напряжении на ближайшие 14–20 часов, до следующего приёма очаровательной сладкой отравы очередной встречи.
Несмотря на наши… отношения, она никогда не рассказывала мне о своих друзьях, о своей личной жизни, о том, что она делает между встречами, в каком университете учится, где трапезничает, где покупает книги. Я почти ничего о ней не знал – и это не смотря на профессионально задаваемые (всё-таки журналист) вопросы. Только примерно полгода спустя, когда она сама стала упоминать о своём круге (что происходило не в результате большего сближения между нами, а – парадокс! – совсем напротив), я узнал, что все её приятели-мужчины были, как и я сам, экзотическими птицами: иностранцами-литераторами, непризнанными гениями или знаменитыми в узком кругу поэтами, художниками и музыкантами. Ни об одной своей подруге она тогда ещё не сказала ни слова. Ещё позже, когда я начал сталкиваться с её приятелями, между нами установилось скрытое безмолвное взаимопонимание. По глазам друг друга мы прочитали о том, что каждый из нас имел физическое отношение к Анне-Марии. Но – странно – это не вызывало ни соперничества, ни ненависти. Наоборот, мгновенно вспыхивала диковинная мужская солидарность, скреплявшая наши случайные встречи налётом меланхолической грусти. Особенно мне запомнился грустный понимающий взгляд одного неудачливого художника, парижанина и оригинала. Он носил тёмный клетчатый плащ и такую же стильную клетчатую кепку. Его глаза за стёклами очков, встретившиеся с моими, сразу же смущенно-понимающе дернулись, и тут же застыли. Его жена, маленькая вёрткая уродица, и две его прыщавые чернявые дочери висели на нём со всех сторон, когда мы как-то столкнулись в квартале библиотеки Лувра. Его глаза были такими же печальными и смущенными, как в первый раз. Позже мне пришло в голову, что эта мужская солидарность возникала от того, что все мы были сделаны из одного теста, а именно: потому, что "Джульетта" тщательно отбирала нас в свою коллекцию. Уже на исходе нашего романа я сталкивался с друзьями по несчастью всё чаще, и происходило это как правило у неё дома. Я видел, как вспыхивали её щеки, когда мы вместе садились за стол, какое доставляла ей удовольствие наша безмолвная солидарность, и думал о том, что в этой неподражаемой юной женщине атавизмом переживает тысячелетия полигамия матриархата, а наша семейная идиллия – отголосок чудовищно далёких времен. Постепенно мне стало известно, что я попал в число трех её наиболее приближённых "chums". Однажды, когда мы вчетвером сидели на кухне, распивая бутылку совсем недурственного вина, самый младший из нас, мужчин, атлетически сложенный Педро, затеял дискуссию о модной тогда в узком кругу квази теории любви. Согласно этой академической шутке, в соперничестве за женщину всегда побеждает мужчина, который любит сильней. "Если ты имеешь в виду себя, – ответил Бертран – клетчатая кепка с очками, – то это совершенно справедливо. У тебя есть все данные, чтобы любить сильней". – Педро лишь удовлетворенно хмыкнул. – "Тут налицо порочный круг мысли, – сказал я, видя, что все ждут меня. – Причиной победы сначала объявляется сила любви, а затем критерием силы – её победа. Но лишь на практике ясно, какой мужчина – "сильнейший". Я видел, как напряглись желваки Педро, как он поперхнулся глотком. Мне казалось, что сейчас он должен вот-вот броситься на меня. Но его взгляд тотчас потускнел, и в нём проявилась уже знакомая мне объединяющая нас меланхоличность.
Мне никак не удавалось представить себе, как проводил с ней время каждый из них, как использовала она свою почти неограниченную власть над ними. Несколько раз мне снился один и тот же абсурдно-сублимационный сон, в котором я был одновременно и Бертраном, и Педро, и мы (тот и другой) вместе любили её. Потом я слышал их мысли, в которых первый вспоминал об этом, ненавидя себя (стыдясь своей слабости), а второй – с распирающей грудь спесью. Мне снился Неаполь, уступами вздымающийся над ослепительным заливом, мощёные маленькие площади и улочки центра, с их старинными зданиями, сувенирными, антикварными, туристическими, галантерейными, ювелирными и прочими магазинами и магазинчиками, ресторанами и ресторанчиками, гостиницами и прогулочными катерами, снились пригородные железнодорожные линии и автострады с указателем Napoli, уютные кафе и бары на Via Chiatamone, поезда метро на линии Metropolitana Collinare, с жёлтыми вагонами и амбразуровидными окнами, наполненные народом в часы пик, нищие флейтисты и гитаристы, входившие на станции Гарибальди и выходившие на Толедо, и покрытые сыпью огоньков отдаленные склоны Везувия.
Закат наших отношений начался примерно тогда, когда забарахлил мотор моего Ситроена. Мне пришлась отогнать машину в гараж, где мне обещали всё сделать в течение двух суток. Добираться до Анны-Марии на метро представилось мне ещё одним приключением – как приправа к романтическим встречам. Я уже забыл, когда последний раз спускался в метро, когда пользовался недельной проездной карточкой с моей фотографией, как доплачивал за переход на другие линии. Я забыл те ощущения, какими откликались во мне вызывающие плакаты реклам на гладких сильно закругленных беленых стенах гигантских труб станций, странный шарнирно-щитковый механизм или пластиковые дверцы турникетов, в Париже называемых то tourniquet, то portillon, с мозолящими глаза знакомыми красными символами с надписью TOFY вместо STOP, голубые билетики – carnet, неглубокие ступенчатые спуски и движущиеся наклонные резиновые "тротуары", подземные уличные музыканты с голодными глазами, попрошайки и нищие-клошары, спящие на редких сидениях платформ и днём, и ночью, киоски с бижутерией и галантереей в переходах, в залах и даже на платформах, назойливые контролёры, особый запах парижского метро. Первые, пока ещё слабые, толчки этих ощущений стали просачиваться в мою душу из памяти уже пока я выяснял, что ближайшие к дому Анны-Марии станции – скорей всего Brochant или Guy Moquet. Я решил ехать до Brochant, направление Габриэль Пери. Линия номер 13 – это была моя линия (какое число!), с ближайшей ко мне станцией Gaite. Я мог ехать прямо, без пересадок, что мне показалось счастливой приметой, вопреки "цифре невезения". Я медленно дошел от Монпарнаса через Place de Catalogne и rue Vercingetorix до спуска в метро. Движение машин на большой улице Avenue de Main вызвало во мне какую-то неопределимую ассоциацию. Захватив с собой роман Патрика Зускинда, я приготовился в дороге читать. Однако вагоны были переполнены настолько, что не представилось никакой возможности, и висячие, полувисячие, наклонностоявшие и прямостоявшие людские тела не позволяли даже открыть книгу. Так продолжалось до Сен-Лазар. Потом толпа поредела. Вместо безлицей людской массы показались одиночные её представители. Я остался один на один с тусклыми, хмурыми, малоприветливыми лицами, недружелюбными взглядами, тёмными пальто и рюкзаками на плечах. Единственное светлое пятно – лицо миловидной женщины – и то несло на себе печать какой-то еле уловимой приниженности. Я почувствовал, что открыть книгу тут как бы не к месту. Часы показывали одиннадцать тридцать. У меня засосало под ложечкой: я привык в это время есть ленч. Чуть было не проехал нужную станцию – и поспешно бросился к выходу.
День выдался тусклым и серым. Даже мягкая парижская атмосфера вальсовой лирики таких дней с трудом пробивалась сквозь этот сероватый налет. Я чувствовал себя отвратительно. Уже подходя к avenue de Clichy, я подумал, не лучше ли просто вернуться домой. На углу я направился не в ту сторону, к улице Cite des fleurs – и повернул обратно. Проходя мимо бесчисленных арабских магазинчиков дешёвой электроники, товаров первой необходимости и депанёров, я чувствовал, как всё сильнее сосет под ложечкой и бьёт какая-то неконкретная дрожь. Я взмок, мои ноздри улавливали исходящий от меня непривычный запах пропитавшейся испарениями толпы, разгорячённого тела и подземки одежды.
Как только она впустила меня, всё сразу пошло кувырком. И она, и я сам – мы остро ощутили изменения, за какой-то последний час совершившиеся во мне; между нами никак не устанавливалась та лёгкость, что сама собой подразумевалась всегда; она не смеялась больше заразительно и открыто, и даже мой любимый Патрик Зускинд, которого я решил пожертвовать ей – хотя это было редкое и крайне ценимое мной издание, – не спас дела. Что касается секса, то впервые за время наших встреч между нами ничего не было.
Я знал, что выше и ниже по социальной лестнице, там, где большие ставки и амбиции, секс – разменная монета; им расплачиваются или его покупают, смотря по направленности вектора зависимости. На всём протяжении высокой карьеры или богатства этот отвратительный вид платежа непременно оставляет следы своих грязных ног. Только в нашем узком кругу – среди непризнанных гениев, экстравагантов-интеллектуалов, профессионалов, вытолкнутых на маргинальную периферию – всех, кто зарабатывает на жизнь в маленьких редакциях, школах и колледжах, продавцами книг или (если это музыканты и художники) непостоянными малооплачиваемыми халтурами, – торговли сексом не существует. Эта среда условна и текуча; за принадлежность к ней, за уютное существование в её мягком и сравнительно безопасном лоне тоже надо бороться. Очертания её границ размыты, их формируют не только социальные механизмы, но – едва ли не в большей степени – ментальность, мировоззрение, ощущение стиля. Выпасть из неё легко: достаточно сделать шаг в сторону. Довольно того, чтобы какая-то деталь привычного быта сломалась – и вся самая хрупкая из всех социальных сред перестает для тебя существовать. Я смутно ощущал, что с Анной-Марией было что-то не так. Она обитала в плоскости нашего круга, и в то же время каким-то образом – за его пределами, там, где люди стремятся к славе и богатству л ю б ы м и путями. Её юмор постепенно становился агрессивней и вульгарней. Иногда мне казалось, что она пытается унизить моё мужское достоинство. "Мужчины обычно думают, что, если две девушки удаляются вместе, значит – лесбиянки. В таком случае, если мужчина уединяется – это значит, что он онанист?" Или: "У Эйфелевой башни спросили: "Почему ты женского рода, если всегда стоишь?" Её телефон, который раньше при мне практически никогда не звонил, стал трезвонить всё чаще и чаще, и она выбегала с трубкой на кухню или запиралась в туалете. Наконец, однажды она заявила, что одной из её подруг (впервые из её уст я услышал слово "подруга") срочно нужна помощь. То, что она мне предлагала, было не таким уж безобидным уголовным преступлением. Я сказал, что должен подумать. Во мне зародилось подозрение, что Педро и Бертран прошли этот этап.
Не помню, как я оказался на улице. Моросил дождь. Жёлтые кляксы света отражались в стёклах автобусов. Арабские магазины уже не работали. Наблюдалось движение лишь у депанёра, где мы иногда покупали вино. Я оставил дома свою машину и приехал – как часто в последнее время – на метро. Какая-то подвыпившая горячая девушка или проститутка окликнула меня. Я только глубже втянул голову в плечи и подтянул воротник плаща. В голове и в груди была полная, абсолютная пустота. Потом сквозь эту пустоту зазвучало странное тусклое эхо Пятого квартета Бетховена. Я еле тащил ноги, как будто на каждой из них висело по гире. Я чувствовал, знал, что мы рано или поздно расстанемся, но не мог даже предположить, ч т о должен буду испытать. В метро какие-то парни бросились наутёк от полицейских, спрыгнули на рельсы и побежали в туннель. Я даже не посторонился, хотя чуть не был сбит полицией.
Даже Монпарнас, где я жил уже несколько лет, не принес облегчения. Чтобы успокоиться, я имел привычку слоняться вокруг вокзала Монпарнас, потом возвращался на rue Alain. Теперь, вопреки обыкновению, я направился в противоположную сторону, от метро до знаменитого кладбища, мимо не менее знаменитого театра. Меня удивила потрясающая тишина, какой я никогда прежде не замечал. Шести-семиэтажные здания хранили безмолвие. Звук одинокой машины, донёсшийся с rue d'Odessa, казался совершенно лишним и отрешённым. Либо на улицах совсем не было людей, либо я их не видел. Жужжание отдалённого вертолета вторгалось как бы из-за кулис, из какой-то иной жизни. Мной овладела непонятная, беспричинная паника. У меня не хватило мужества повернуть – как я сначала намеревался – направо по бульвару Эдгара Гюне, к одному из центральных входов на кладбище. Даже углубиться в аллею тёмных теперь деревьев, посередине бульвара, у меня недоставало духа. Вместо этого я повернул в обратную сторону, вдруг по-новому ощутив громаду чудовищной башни в конце бульвара. Одно из самых высоких зданий Парижа, она зловеще нависала над окружающим как чужеродное тело, как несовместимый со всем земным корабль инопланетян. Пустота прекрасного кладбища, трупный смрад которого щекотал ноздри, хотя никак не мог тут быть слышен, благородные очертания архитектуры театра, который я только что миновал, изумительное спокойствие всего этого квартала, с его мягкими лиловыми тонами весной и в конце лета, вся моя любовь к этому району, где я научился чувствовать поэзию Кокто, полюбил Патрика Зускинда, Сержа Гинсбурга, Эрнста Яндля, Чеслава Милоша, музыку Вайля, где наслаждался пробуждением весенних почек, цветов и молодых женщин, где для меня открылось неожиданное окно во вселенную – не через знаменитую обсерваторию, а через район, где она находилась: всё это не смогло закрыть расползающуюся во мне чёрную дыру, куда проваливались все щиты и дамбы.
Кладбище за моей спиной, всегда успокаивавшее меня, самое маленькое в Париже и самое любимое мной, где похоронены Бодлер, Бальзак и Сен-Санс; россыпи культуры и истории, в том числе истории моей собственной жизни; церкви, отдаленно напоминающие Торунь и Краков; безостановочность наполненного литературой и искусством времени – не выстояли против расползания этого чёрного, неудержимого в своём расширении провала. Под ногами я ощущал самой подошвой ботинок отвратительные Катакомбы, какие прежде всегда находил романтическими; мне казалось, что я иду по черепам и костям, по жизням людей. Перед моим внутренним взором встала карикатурная панорама Монпарнаса, с преобладанием жёлтого и бурого цветов, панорама-пародия в стиле Босха, заволакиваемая смогом и предчувствием Апокалипсиса. Бесповоротно смятые любимые образы превращались в раздражавшие нервные импульсы; аномалия красоты одного из прекраснейших городов мира – в свою противоположность, и чёрная дыра во мне всё разлезалась, соизмеримая с размером Вселенной. Разрушительная деэстетизация продолжала своё безостановочное движение, как фантастическое орудие смерти на поле жизни, оставляющее за собой черепа и кости. В моём сознании чётко звучали, произносимые чужим голосом с невыносимой издевкой, имена одноименных Башни, Вокзала, Кладбища, Бульвара, Улицы, Театра, Обсерватории и других Объектов, носящих имя Монпарнас. Это открытие поразило мой мозг с какой-то жестокой откровенностью обратного прозрения, когда это псевдо-прозрение изначально понимается как чудовищная ложь, но настолько законченная в своей реальной экзистенции, что становится бытием. Онтологические края этого нового существования трепетали, словно крылья жуткого монстра, окрашивая пурпуром невидимой крови всё, что было вокруг. Я зашёл наугад к моему другу Марицио и напился у него до беспамятства.
* * *
Позже я решил считать эту главу моей жизни закрытой и старался не думать о ней. Даже когда мой приятель, художник и поэт Ги Серпо, всколыхнул мои чувства, вскользь упомянув о появлении Анны-Марии на какой-то party богемного полусвета, на моём лице не дрогнул ни один мускул. С плас Конкорд до меня доходили слухи, что на какое-то время ей стали интересны русские барды-художники Саша Савельев и Лёша Хвостенко, но один был женат на милой русской художнице, какую боготворил, и на него не действовал яд Джульетты, а второй оказался её кратковременным увлечением. Именно в тот период литературовед и издатель Патрик Ренодо, с которым я столкнулся в симпатичном русском ресторане "Анастасия", скрывавшемся в одном из самых живописных пассажей между rue de Faurbourg и бульваром de Strasbourg, попросил меня дать рецензию на творения одного графомана и маргинала. Этот чудаковатый француз писал исключительно по-английски, непременно после чтения Чехова и Достоевского (в подлиннике). С последними сходства у его писанины было мало, разве что нелепый налет "русского акцента" в английском, каким он, вероятно, старался перебить "французский". Его очередным ударным шедевром оказалось нечто под названием "This Fucken World", а очередным экстравагантным условием рецензирования – обязательное чтение самим автором.
Мы встретились на нейтральной территории, в районе Монматра, куда я, будучи не совсем "трезвым, как стеклышко", добрался на метро. Автор оказался высоким костлявым пожилым человеком с лысым блестящим черепом и профессорскими очками на носу. Он одарил меня мягкими, приятными манерами; от него исходила атмосфера достатка и гарантированного благополучия. Тонкий вишнёвый свитер немного скрадывал его худобу. Поправив очки, он стал читать гнусавым голосом, с лёгким элегантным французским произношением:
THIS FUCKEN WORLD
– Listen, there is nothing I can do about them. What should I… – give them orders?
– You fucken coward! You're a member of that body!
– Listen…
– I'm listening to you tree whole fucken years. Next year I'm graduate – and… Fuck off! I told you – F U C K O F F.
– What's the matter with you? I am going to speak to them, OK? Turn 'round. That's better. Much better. Yeaa! Mmmm. Nice. Very nice. Come closer… Shit! What are you doing! What's on your head, you fucken…
– I am always fucken.
– Very good. Tell me what else on your mind.
– Ya mom callin': who's there? As if she knows nothing about our fucken life. "I am not recommending you to press the "mute" button". ' never touched this fucken button.
– Why shouldn't you speak to her?
– Why shouldn't she fuck off?
– OK. Calm down. Let's go.
– No fuck! I said no fuck!
– Come on! You want it always. Or I know you that little?
– I hate your MIX-96. It's fucken primitive…dumping. Fucking hell! Isn't I telling you no fuck?
– Change the station.
– Giving you my fucken ass? Ya? You can watch your fucken video stream instead… OK, look, but don't touch. Don't touch!
– Your skin is like a magnet. My hands are sticking to…
– Not only hands!
– How about that, sweetie?
– How 'bout that, fucken sweaty?!
– Oh, magnificent!
– Would you sacrifice your fucken Laura for that?
– I would sacrifice this whole fucken world for that. This whole fucken world…
* * *
Наступила принужденная пауза. Он ждал моей реакции – смеха, слов, хотя бы покашливания. Но меня душили слёзы. Я с трудом смог выдавить из себя извинение – и поспешно выскочил за дверь. Истерика, случившаяся со мной, потрясла меня. Без всякой видимой причины опять возникло грозное размывание реальности, как будто на этот мир наслаивался какой-то другой. Я сидел на окне и жадно курил, когда сзади подкрались мягкие шаги. "Est-ce que ca va? – спросил рецензируемый . – "Ca va, – откликнулся я в тон.
* * *
Проходя по нижним улицам в районе Монмартра, я видел сверху, надо мной, белую громаду Le Sacre-Coeur.
* * *
И снова меня охватило беспокойство потери реального Парижа, м о е г о бытия, место которого вероломно занимало чьё-то враждебное и внеземное. Собор Le Sacre-Coeur виделся мне теперь диковинным восточным дворцом или мечетью, его византийские пропорции и формы излучали присутствие иного времени и пространства. Во дворе одного восточного посольства дети говорили на каком-то непонятном тысячелетнем языке, что лишь усилило разрушение реальности. Белые тюльпаны вытянутых книзу куполов собора, теперь видные в просвете улиц, стали казаться ещё более загадочными объектами внеземного происхождения. Необходимо было остановить эту коррупцию мира. Единственное, что я мог предпринять – это поехать в центр.
Так я оказался на одной из самых светлых и людных улиц. В эти предрождественские недели везде зажгли иллюминацию. Все деревья по обе стороны были увешаны гроздьями лампочек, отбрасывающих снопья ТЕНИ СВЕТА. Машины скользили в этой прозрачной воде бликов как совершенные блестящие твари. Развешенные над всеми улицами кружева белых и жёлтых лампочек ткали на проезжей части невесомый магический узор. Кругом теснились толпы народа, и я двигался в этой плотной среде, среди смеха и шуток, разговоров, шагов, голосов. Огни магазинов и ресторанов ярко горели; повсюду сияли новые рождественские рекламы; световые панно и отражения выражали всю гамму цветов. Ветви деревьев с лампочками редко покачивались от ветра – и только это выдавало экстерьер. Всё остальное с неопределимым совершенством имитировало гигантскую, бесконечную комнату-интерьер, комнату-город, с её улицами-коридорами, залами-площадями, с патио – Сеной и набережными. На поднятых на уровень пятых этажей платформах грохотали поезда; жёлто-красные трамваи сворачивали на поворотах; от автобусных остановок отъезжали автобусы; запахи моющих веществ, еды, новой одежды и парфюмерии доносились отовсюду; медленно двигались полицейские машины; женщины держались с самой потрясающей в мире парижской элегантностью. Даже магазинщики в этой части Парижа закрывают свои лавки с изысканной грацией. Я вдыхал запахи, звуки, краски, усиливаемые и множимые сотнями взглядов, всплесков, эмоций. Но столкновение самой динамичной, эксклюзивной, сверхреальной среды с растущим во мне серым, неопределимым безмолвием – как столкновение огня и воды – вызвало взрыв, некий экстра-экзистентный выброс энергии. Все эти потёки огней, блеска, сияния, ореола и свечений стали смываться средой – как следы блесток с зеркальной поверхности. И вдруг из парижской сутолоки я шагнул прямо в бездонную пустоту. Пространство всколыхнулось – и выпустило меня с другой стороны в совершенно невообразимый континуум, ни границ, ни законов которого невозможно ухватить и постигнуть. С тех пор я нахожусь в этом рассеянном анти-пространстве, не осознавая ни времени, ни событий. Может быть, меня переехал трамвай или какой-то случайный маньяк всадил мне в сердце острый клинок; может быть, на меня обвалился балкон – или я был сражён неожиданным и молниеносным кровоизлиянием в мозг. Нахожусь ли я в коме, умер или сошел с ума – этого нельзя даже предположить. Может быть, это такой длинный и страшный сон. Или мир, поддерживаемый мышцами моего внутреннего взгляда на магическом экране майя схлопнулся, сложился, как неуловимый феномен самой жизни, и сгорел, оставив кучку пепла в виде чёрной дыры беспробудно-неопределимого не-бытия…
Париж, 1989 – Вильнюс, 1990