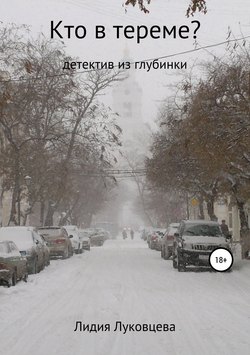Читать книгу Кто в тереме? - Лидия Луковцева - Страница 2
Лида
ОглавлениеЛида Затюряхина родом была из Воронежской области. Папа ее занимал пост начальника милиции городка районного значения, а мама – главного бухгалтера жилкомхоза. Был еще брат Вова, на два года старше Лиды.
Папа, прошедший войну артиллеристом и закончивший ее в чине капитана, на войне неоднократно был ранен, украшен орденами и медалями, пил по-черному и бил маму смертным боем, мотивируя ревностью.
Мама была симпатичной женщиной, моложе на тринадцать лет, но от пребывания в постоянном страхе и стыде из-за суда людского – угасшей и какой-то скукоженной. При этом вечно в синяках. Кто бы рискнул на нее позариться?!
Папа был настоящим красавцем – высокий голубоглазый блондин. Он активно использовал и свою внешность, и свое положение, и у мамы было больше резонов ревновать, но папа раньше нее усвоил старую истину. Если большой вор будет показывать на маленького воришку и кричать «держи вора!», ловить станут маленького. Верят всегда тому, кто крикнул первым.
– Кобель! – шептались мама с подругой Зиной.
– И чего ты с ним мучишься? – возмущалась Зина. – Я бы уже давно ушла к кому-нибудь!
– Куда-а-а? – морщилась от ее крика мама. – К кому? Вон, двое их бегают. И он меня везде достанет. Да и потом, все другие, они тоже войной покалеченные. Кто в ногу или руку, а кто – в голову, как мой.
– Ну, твой от рождения, видать, в голову покалеченный!
Зина прибегала частенько, и своего добегалась: позже маме шепнули, что она – одна из многочисленных любовниц Федора Васильевича.
Жаловаться мама боялась, да и кому? В их городке папа был большим человеком, плюс славное фронтовое прошлое, награды, юридические курсы и Высшая партийная школа. Когда папу привозили домой в коляске мотоцикла и два дюжих милиционера затаскивали его бесчувственное тело в дом и укладывали на кровать, мама хватала кое-какие вещички, детей и убегала искать пристанища на ночь.
Со временем искать становилось все труднее, папа уже знал немногочисленные места, где его семейство могло укрыться. После того случая, когда он среди ночи ворвался в дом к Зине и вытащил маму из шифоньера (Лида и Вова прятались под кроватью), он пригрозил посадить Зину. Оповещенная об этом факте Зиной общественность, изо всех сил сочувствуя маме, опуская глаза, все же стала отказывать ей в прибежище. Мама не была бойцом, и ее стали посещать мысли о самоубийстве. Удерживала только мысль о детях.
Все же до Бога дошли мамины молитвы. То ли папа как-то накосячил по работе, то ли лопнуло у руководства терпение на предмет его пьянок, то ли младший коллега, озабоченный карьерным ростом, настучал – но в один, далеко не прекрасный для папы день, с работы его поперли.
В органы на работу папу не брали, нашел он место экспедитора на хлебозаводе, но самолюбие его жестоко страдало. Ему казалось, что все тычут в него пальцами. Впрочем, надо полагать, он был недалек от истины. Встал вопрос о переезде, а куда ехать? По зрелом размышлении решили – на родину мамы, в Артюховск.
Поселились в родительском доме, где бабушка, похоронив деда, жила одна. Папа томился, притих, пил редко и даже по пьяни рук не распускал – был пришиблен случившимся с ним, а поначалу просто стеснялся бабушки. Через год вдруг засобирался обратно на родину, позондировать почву. Недели две он отсутствовал, вернулся окрыленный и велел маме собираться. Он задействовал кое-какие старые связи, и его пообещали вернуть на юридическую стезю, если он согласится поехать в село – большое, райцентр! – на должность адвоката.
Мама, которая за год нормальной жизни отдохнула душой и телом, решительно отказалась. Даже перспектива остаться разведенкой с двумя детьми на руках и мизерными алиментами, чем попытался спекулировать папа, ее не пугала.
Папа уехал, стал сельским адвокатом, увез с собой Зину, женился на ней и жил долго и счастливо. Вроде бы, даже рукоприкладствовать перестал. А мама работала бухгалтером, прирабатывала шитьем, поскольку алименты были чисто символическими (папа ведь был юристом!) и продолжала отдыхать телом и душой.
Когда семья переехала в Артюховск, Лиде было 14. Возраст, в котором характер если и не сформировался окончательно, то в целом сложился. Ужас, пережитый в детстве, сопровождал ее всю оставшуюся жизнь. Она вспоминала, как прятали они с братом ножи, в ожидании возвращения припозднившегося, а стало быть, пьяного, отца. Как отец избивал маму табуреткой, норовя попадать по голове, а Лида так кричала, что сорвала голос. На другой день, выйдя к доске отвечать, она только сипела, показывая на горло.
– Мороженого переела? – спросила учительница.
Она кивала: да, мороженого.
В городке все обо всех знали. Знали, что начальник милиции пьет и держит в страхе семью. Брат был сердечником, и мама помучилась, выхаживая его по больницам да санаториям.
Они росли детьми зажатыми, неуверенными в себе (сейчас психологи формулируют это как закомплексованность и низкую самооценку), хотя были умненькими и учились хорошо. Оксана, Лидина дочь, – совсем другая: бойкая, за словом в карман не лезет, прекрасно ориентируется в обстоятельствах. Себя в обиду не даст никому. Открыла свое дело, командует мужем. И с жалостливым презрением относится к матери – рохля, неудачница! Лида полагала, что гены генами, но главное – семейная обстановка, в которой растут дети и формируется их характер.
Мама, от спокойной жизни постепенно начав распрямляться, скоро распрямилась совсем. Через два года, вскоре после смерти бабушки, она привела знакомиться Павла Егоровича – дядю Пашу. Маме в ту пору было слегка за сорок, но для дочери она была старухой, и Лида бесилась неимоверно при мысли о постельных отношениях мамы и дяди Паши. А как было не возникать этим мыслям, если еженощно тишину нарушал мощный ритмичный скрип кровати и прорывались задушенные стоны. Мама, дорвавшись на пятом десятке до нормальной женской жизни, чувств дочери (брат уже был в армии) не щадила. Да и как их можно было щадить в маленьком домике с дощатыми перегородками?
Лида по утрам отводила взгляд, а если приходилось встречаться с матерью глазами, думала ей прямо в лицо: «Старая шлюха! Еще вздумает ребеночка родить!»
Но был и положительный момент. Как ни странно, с дядей Пашей у Лиды сложились нормальные отношения. Это сейчас – педофил за каждым углом. Лиде ничего такого не грозило. У дяди Паши и мамы была любовь. Они обнимались, хихикали и перемигивались, придумали друг другу клички – Пашунчик и Вавочка. Как-то Лида похвасталась, что мальчишки похвалили ее ножки.
– Ну-у-у, – сказал дядя Паша, – у тебя пока еще только две спички. Вот у кого ножки! – и нежно прижал к себе мать.
А то норовил измерить ее талию двумя руками и сетовал:
– Пальцы коротковаты, чуть-чуть не хватает.
Когда у мамы начал расти животик, Лида задумала уйти из дома. Ей было 17, и трезво оценить ситуацию она не могла. В ее планах было пожить у подруги, пока придет ответ от отца. Как будто у подруги не было своих родителей, а у отца – жены!
Мама, увидев, как Лида собирает в сумку вещички, дала ей пощечину. Дочь, рыдая и сотрясаясь от обиды и ненависти, как смогла, высказала все, что думает о поведении матери. Потом поплакали уже обе, сидя каждая на своей кровати, и пришли к консенсусу: Лида никуда не уйдет, пока не придет ответ от отца. А там – как пожелает, но пусть подумает, что ей надо окончить школу и поступить в институт, а отец живет все же в селе – какая там подготовка?
Отец прислал коротенькое аргументированное письмо с объяснением, почему он не может взять дочь к себе – одно сплошное беспокойство об ее же благе.
У мамы родился мальчик с синдромом Дауна. Лида тогда в сердцах подумала, чего было ждать другого, учитывая возраст и условия ее прежней семейной жизни! Мама, намучившаяся в свое время с братом Вовой, теперь мучилась с Сереженькой, и естественно, Лида была вовлечена в этот процесс. «Не себе – мне его родила!» – злилась она про себя.
Ни привязаться к ребенку, ни полюбить братика она не успела – он умер в два года. Горе Вавочки и Пашунчика было безмерным. Но Лиды уже не было в их доме.
…Как-то сидели с девчонками на лавочке на вечерних посиделках. Нашлась у кого-то тетрадь и карандаш, забавы ради начали показывать друг другу, кто как расписывается. Подошедший парень-сосед, недавний дембель, присел, принял участие в забаве. Девчонкам льстило внимание взрослого парня, они защебетали, заохорашивались и начали друг перед другом выпендриваться. Это для них, семнадцатилетних соплюх, он был взрослым и бывалым, а фактически – пацан двадцати двух лет, недалеко ушел! И Лида тоже, засмущавшись, сидела – ни жива, ни мертва.
– Смотри-ка, – сказал парень, – у нас с тобой росписи одинаковые!
Лида расписывалась – «ЛЗатюр», «т» у нее была с одной палочкой, как печатная, парень – «ЛЗадор», «д» как «о» с хвостиком наверху, с одинаковыми завитушками в конце. Звали парня Леонид Задорожный.
– Судьба тебе – выйти за меня замуж. И расписываться по-новому учиться не надо.
Лида, начитавшись классической литературы, уже ждала своего принца, одноклассники были ей не интересны. А тут – взрослый парень и такой знак судьбы – сходство фамилий и одинаковая роспись! Гормоны уже играли вовсю. Она не знала, читал ли он Экзюпери и Грина, пишет ли без ошибок (это был ее критерий). Она просто начала думать о нем и обмирать в его присутствии.
Ни для подружек, ни для Лени это не осталось незамеченным. Очень скоро Леня ее поцеловал – ее первый поцелуй! В Лене тоже бушевали гормоны. События совершались стремительно.
К чести Лени, он не просто «использовал» девушку. Она ему нравилась всерьез. Вскоре он предложил ей перейти жить к ним с матерью, поскольку о регистрации говорить не приходилось – Лиде не было восемнадцати, а регистрироваться по справке о беременности через райисполком она не хотела. Да и в школу с пузом ходить – умерла бы со стыда, одна из лучших учениц! Так и оканчивала школу – ни мамина дочка, ни мужняя жена.
В школе, конечно, знали о пикантной Лидиной ситуации, но предпочитали свое знание не афишировать: хорошая девочка, до аттестата рукой подать, зачем ломать ей жизнь. Родила Оксану через полгода после вручения аттестатов. У Лиды была золотая медаль, но ей она в дальнейшем не пригодилась.
И понеслась жизнь. Леня выпивал в меру, не рукоприкладствовал, зарплату отдавал ей полностью, даже заначек не делал. Рыбаки на берегу смеялись: Ленька курит сигареты «ККД» – кто какие даст.
– Ленчик, тебе жена что, и на сигареты не дает?
– Не дает! Жадная, стерва.
– Ну, ты попал!
Это у него такая отмазка была. Он сам был скуповат, а на берегу только дай один раз закурить – заездят: на халяву много желающих! А так – и не просят, знают, что у него никогда нет.
Как же Лиде было с ним скучно! От чего она когда-то млела и таяла? Задним числом она понимала, что все дело было в физиологии и желании уйти от матери, и по молодой глупости выдала желаемое за действительное. Все раздражало ее в муже: как чавкает при еде, прицыкивает зубом после, как говорит «впрочем» вместо «в общем», «ворота» и «подошва» с ударением на «а». Но главное – его необразованность, неразвитость и нежелание чему-то учиться.
Лида сразу после декретного отпуска пошла работать на швейную фабрику, оставив Оксанку на попечение свекрови. При том, что работа была в две смены, при куче домашних дел и маленьком ребенке, она не переставала много читать, любила познавательные телепрограммы. У Лени все интересы – рыбалка да карты-домино с мужиками на лавочке.
Она стала его стесняться, если изредка приходилось выбираться в кино или – силы небесные! – в театр! Но самое тяжкое – физиологическая сторона ее семейной жизни. Очень скоро муж стал ей неприятен, а приближающаяся ночь надвигалась неизбежным кошмаром.
Лида стала постепенно сгибаться и скукоживаться, как когда-то ее мать, хотя, по меркам матери, она жила – как сыр в масле каталась. Леня драчуном не был по характеру, да и Лида, придя к нему в дом, предупредила крайне серьезно: тронешь пальцем – уйду. Но в силу мягкотелости и инертности характера, она ничего не предпринимала, чтобы как-то изменить жизнь. Как ее изменить?! Оксанка любит отца, он в ней души не чает, хозяин, заботливый… Люди ее не поймут, скажут, с жиру бесится. Так и прожили тридцать лет без малого.
Ах, да. Гарик. Было ей 38, когда случилось заболеть – воспалился аппендикс. На вызов приехала бригада Игоря Юрьевича. Он был за врача. Изнемогающей от боли Лиде показалось, что боль отступила, как только он вошел в комнату. Длинными тонкими пальцами он не помял – нежно погладил ей живот, положил прохладную ладонь на лоб – и Лиде стало лучше, показалось – и боль уменьшилась.
– Несите носилки, – сказал медсестре. – Водителя зови, поможет вынести.
– Может, не надо?.. – пискнула Лида. – Кажется, мне получше стало…
– Правда, может, обойдется? – присоединился Леня.
Доктор ласково Лиде улыбнулся:
– Сегодня я здесь за главного!
А Лене сказал:
– Вы что, мечтаете стать поскорее вдовцом? Имея такую красавицу-жену?
Леня залопотал что-то оскорбленно, но доктор его прервал.
– Давайте переложим на носилки. Поможете вынести. И соберите необходимые для больницы вещи.
Ее очень своевременно прооперировали, мог случиться перитонит. И больше Лиде с красивым доктором встречаться не приходилось, но светлый его образ остался в ее душе навечно.
Постепенно из знакомых медицинских и околомедицинских артюховских кругов Лиде удалось узнать фамилию доктора, а имя она уже знала – его коллеги из бригады обращались к нему тогда. Потрясающие имя и фамилия: грассирующие, на французский манер, тягучие, как зрелый мед, от обилия гласных. Музыка небесных сфер!
В случайном разговоре с медсестрой, работавшей в медицинском кабинете их швейной фабрики, Лида узнала, что живет он на улице Пожарского. Медсестра Оля, как бывшая однокурсница, побывала у него в гостях однажды, после встречи выпускников (по ее версии). От Оли же, в другом разговоре, Лида узнала про репутацию Игоря Юрьевича – несусветного бабника.
Она не разочаровалась, образу доктора это только добавило шарма. В своих расспросах Лида вела себя крайне осторожно, была всегда начеку, как сапер на минном поле: не дай бог, кто-то что-то заподозрит. Что люди подумают!
Ее помешательство дошло до того, что она стала возвращаться с работы другой дорогой. Лида делала изрядный крюк, чтобы всего лишь пересечь улицу Пожарского, в надежде совершенно случайно столкнуться с Игорем Юрьевичем и поздороваться с ним, а на его удивленное «мы знакомы?» напомнить тот давний вызов к ней. Судьба не посылала ей встречи, а организовать встречу самой Лиде и в голову не приходило.
С годами острота эмоций притупилась, но тут у мужа прихватило сердце. Гарик, которого уже и «не ждали», на излете своей карьеры прибыл на вызов. Уже прилично помятый жизнью, уже не столь неотразимый, но он вошел – и у Лиды оборвалось сердце.
В третий раз судьба свела их на «бирже». Похоронив мужа (инфаркт, негаданный-нежданный), Лида пришла нанять какого-нибудь мужичка, чтобы спилил и выкорчевал старую сливу, толку от которой уже не было никакого. Осуществлять эту акцию выпало Гарику, хотя Лида понимала, что для него это будет весьма затруднительно – он был очень худ и выглядел нездоровым. Можно было для такой работы выбрать и покрепче мужика.
Гарик ее не вспомнил. Сначала она его покормила, налив стопочку для аппетиту, потом повела показывать свое ухоженное хозяйство и предстоящий объем работ. Это отняло довольно много времени, но позволило им пообщаться и обрести друг в друге родственную душу. Оба были приятно удивлены совпадением вкусов и интересов.
Там и обед подоспел. Лида за компанию тоже выпила пару рюмок. Гарик, окосевший не столько от выпитого, сколько от сытной еды, да еще и начинавший грипповать, совсем осоловел, но перья распушить он умел в любом состоянии. Лида имела случай убедиться, что сердце ее не обманывало.
Гарик проснулся от аромата куриного бульона, в белоснежной постели. Как он в ней оказался, он помнил смутно, буквально отключился. Не помнил он и последующих событий. (Собственно, «последующих событий» и не было, не тот у Лиды был характер). Из предыдущих событий последнее, что помнил – вечернее чаепитие.
Когда он, томясь, заикнулся о выполнении своих трудовых обязанностей, хозяйка всполошилась:
– Куда? С температурой-то! Пусть растет! Может, еще будет от нее какой толк этим летом, еще разок варенье сварю.
* * *
В реанимации Гарика продержали почти неделю. Потом ему стало лучше, а больничный конвейер работал безостановочно: привезли свеженького, с тяжелой травмой. Гарика перевели в послеоперационную палату на четверых.
Лида была при муже безотлучно, спала на стуле, головой опираясь на спинку его койки. Свободных коек в палате не было. Она протирала полы в палате вместо санитарки («не в службу, а в дружбу!»), совала сотки и пятисотки в карманы белых халатов, согласно ранжиру, на время обходов испарялась. Лишь бы не гнали!
Замначальника отдела уголовного розыска Бурлаков, опрашивая потерпевшего, испытал укол зависти: это ж надо, какая любовь! И к кому – алкашок, бич. Он слегка морщился, слушая горячечные речи супруги потерпевшего о покушении. Собственно, Бурлаков и явился-то сам в больницу лишь потому, что заявление в полицию было составлено именно так, с требованием расследовать дело о покушении.
Жаль, сразу с материалом не ознакомился, поленился, а то, если бы знал заранее подноготную, отправил бы кого-нибудь из оперативников, а то и вовсе сплавил бы дело по прямому назначению – участковому. Ну какое покушение, на кого тут покушаться? «Хулиганка», без сомнений! Выпили, подрались, приложили хорошенько по голове, а потом испугались, что убили, и бросили в колодец.
– А что он делал на заброшенных дачах?! – зловеще вопрошала Лидия Федоровна, когда Бурлаков в очередной раз подвергал сомнению ее доводы.
– Пил, что же он там делал!
– Сколько раз вам повторять, он не пьет! Я не знаю, что должно было случиться, чтобы он выпил! Что, вернее, кто, мог заставить его выпить! Нашли у него в крови алкоголь?
Бурлаков кисло улыбнулся. Не говорить же этой горем убитой милой женщине, что и заставлять-то шибко сильно не требовалось… Он, естественно, уже позвонил, куда надо, и прояснил для себя краткую биографию Игоря Юрьевича – Гарика.
– Нашли, конечно. В таком количестве, что на двоих с лихвой бы хватило. Вот ему станет лучше, и он сам нам все расскажет!
Пока же Гарик не говорил – шелестел что-то почти неслышно. Состояние тяжелое, но стабильное. Упал он с довольно большой высоты, а на дне колодца была груда битых кирпичей.
Многочисленные ушибы и повреждения, да два серьезных перелома могли быть следствием падения. Но могли и не быть. Как минимум по черепушке его хорошо приложили еще до колодца, это однозначно. Судя по найденным в ране занозам, били чем-то деревянным. Причем, травма оказалась глубокой, а к содранной коже, как рассказал врач из «скорой», прилипли кусочки старой краски – белой и синей. Значит, нападавший использовал не просто доску или палку из штакетника, а нечто тяжелое и не один раз перекрашенное. Что именно – пойди угадай.
Плюс, оглушенный Гарик провел целую ночь на земле, в сырости. А куртку и ботинки с него сняли. Еще одно свидетельство, что собутыльники позарились? Или беглый вор, из тех, что отсиживаются подальше от посторонних глаз на брошенных дачах? Или шпана местная? Бог его знает.
Жена говорит, куртка была приличная. Ноябрь в этом году хоть и теплый стоял, даже для их южного края, но все же плюс пять, не лето красное. Да дождичек, да ветерок – переохлаждение. Как следствие – двухсторонняя пневмония. К тому же, не мальчик, полтинник одолел. И бурную биографию нужно учесть, общую ослабленность организма.
Но не зря говорят, что пьяным Бог помогает. Трезвый человек при таком раскладе уже точно в морге бы находился. Вовремя она его нашла, жена-то. Еще денек пролежал бы там – все, хана мужику.
Но какая интуиция!.. Неужто и правда, у некоторых женщин сердце – вещун? Только не у его собственной жены, увы…
А с другой стороны, действительно, чего это Гарик поперся на дачи, отдежурив в музее? Распить бутылку можно и в сквере на лавочке, если так загорелось. Или уж в гости к себе пригласить, или самому в гости пойти… А может, он и сходил в гости?
Супруга продолжала рассказывать о своем совместном с соседкой расследовании.
Батюшки-светы! Соседка оказалась старой знакомой! Бурлаков мысленно перекрестился: к добру или к худу появление в этой истории Людмилы Петровны?
В прошлый раз, нужно признаться, она со своими двумя подругами неплохо поработала. Хотя их сыскной метод – всего лишь умение слушать сплетни да байки и сводить воедино концы! Да даже и не сводить, их как бы сама судьба подталкивает.
И сейчас, во всяком случае, их поход на «биржу» имел несомненный результат: полицейским «биржевики» ничего бы не рассказали из классовой неприязни. Будем откровенны, ему и самому не пришло бы в голову идти туда за информацией. А так – нарисовался некий бывший кореш Игоря Юрьевича Херсонского – Виктор Легостаев, вроде бы проживающий на дачах, но не известно, где пребывающий на данный момент. Хоть какая-то зацепка.
А потерпевший пусть пока оклемывается, выздоравливает. Пару-тройку дней можно его не беспокоить. Бытовуха, не резонансное же преступление.
* * *
Гарику поставили капельницу, нужно было не прозевать, когда закончится раствор во флаконе. Медсестричка Оленька, прощебетав Лиде руководящие указания, упорхнула – то ли истории болезней заполнять, то ли вздремнуть в ординаторской. Но, вполне вероятно, на ночное рандеву с молодым симпатичным больным, который ждал ее в одном из укромных уголков старинного длинного двухэтажного здания артюховской городской больницы.
Мужская палата спала, всхрапывая, стеная, вскрикивая. Один – тот, что в углу у двери, ругался с кем-то, причем разговаривал вполне членораздельно, изъясняясь отборным матом.
«Даже во сне матерятся. Не маму зовут, не жену – все воюют с кем-то. Ну, мужичье!» – поражалась Лида. Гарик тоже, бывало, храпел. Когда Лида в шутку пеняла ему утром, он и отшучивался чужой шуткой:
– Я не храплю! Мне снятся мотоциклы.
А когда она после регистрации, по бабьей отвратной манере, изредка начинала приставать к мужу на тему, счастлив ли он, он сокрушенно пожимал плечами и тянул задумчиво:
– Ну… Естественно. А куда деваться!
Она-то знала, что и он счастлив.
Лида изо всех сил боролась со сном. Днем ее подменила Люся, буквально вытолкала домой – поесть, помыться и хоть пару часиков вздремнуть. Какой там был сон! В глаза как будто спички вставили! А сейчас мужской храп звучал для измученной Лиды слаще колыбельной.
Она все же провалилась в сон на какое-то время, потом вскинулась, как будто кто в бок толкнул. Нет, слава богу, жидкости в пузырьке еще оставалось прилично! Но если она еще раз вот так отключится – запросто прозевает момент, когда пузырек надо будет менять!
Лида, тихонько отодвинув свой стул к стенке, вышла из палаты – решила пойти умыться, чтобы прогнать сон. Умывшись, некоторое время постояла у окна, прижавшись лбом к холодному стеклу.
Несколько неказистых сосен, растущих в больничном дворе, с высоты второго этажа не выглядели однобокими и жалкими, наоборот. Ночь превратила их в роскошных красавиц, а сыплющаяся с неба морось и свет фонарей посеребрили. Словно инеем припорошенные, сверкали они, напомнив Лиде городок ее детства. Не слишком счастливого детства, но и в детстве несчастливом есть моменты, при воспоминании о которых сладко щемит сердце…
Зимой по пути в школу сойдешь, бывало, с накатанной дороги, к которой вплотную подступает сосновый молодняк, и, проваливаясь в сугроб, с ближней молоденькой сосенки отломишь ветку с шишками. И весь день она у тебя в парте источает немыслимый хвойный дух, рождая ощущение праздника.
А летом? Их с братом Вовой довольно часто посылали в гости в деревню к тетке – двоюродной сестре отца. Шесть километров лесом, правда, по прямой накатанной дороге, но разве сейчас такое можно представить? Маньяки, педофилы, киднэпперы, да и – все-таки лес!
Конечно, в то время Лида уже была знакома со сказкой про Красную шапочку, но никаких аналогий у нее не возникало. К тому же, она ведь была с братом! И они шли, горланя песни, иногда сходили с дороги и, далеко от дороги не отходя (все же родительские инструкции были суровы и четки), собирали землянику, случались и грибы. Маслята росли под соснами, упругенькие «сопливчики», с приставшей к шляпке сосновой иголочкой.
Иногда проезжала телега, и их подвозили, изредка случалась и машина. Конечно, «милицейских детей» многие в округе знали, но ведь наверняка были у отца недоброжелатели, да и враги. А вот поди ж ты… Нет, что ни говори, время было другое, люди другие.
Лида не очень любила эти походы-поездки в Жихаревку, особенно зимой. У тетки было шестеро детей, и спать Лидушку укладывали почему-то всегда на русскую печь, с двумя младшими девочками. Эти малышки, шести и семи лет, очень ловко скатывались с печи, а гостья, старше них на три и на два года соответственно, трусила, высоты боялась, да и не знала тех опор-выемок, с помощью которых малышня играючи слетала с верхотуры. И, когда ночью возникала необходимость пописать, застенчивая Лида терпела, сколько могла, а потом, не хуже Люсиной Ксюни, начинала скулить.
Младшая из сестер была Лидиной тезкой, но, в отличие от Лиды (Лидушки) звалась Лидуней. Она была сущим дьяволенком, и в тандеме кузин-тезок играла ведущую роль.
Как-то шли они компанией ребятни на пруд купаться, Лидушка с Лидуней – последними, в хвосте. Навстречу соседка несла на коромысле ведра с водой. Лидуня, поравнявшись, плюнула в ведро. Вечером бабушка спросила у внучки:
– Лидуня, а зачем ты плюнула-то в ведро?
Малолетняя преступница, потирая следы материнской педагогики на заднице и сотрясаясь от затухающих, остаточных всхлипов, попробовала проанализировать случившееся.
– Водичка была такая гладкая, ровная, мне захотелось, чтоб она поколыхалась.
Лидуня же была автором оригинального ноу-хау. Когда перед поздним ужином отмытую ребятню отпускали ненадолго на улицу, Лидуне очень хотелось сменить угвазданное за бурно прожитый день платьице на чистое, как старшая сестра к вечерним посиделкам. Но кто ж ей позволит – перед сном-то, второе платье за день? Где же их набрать столько, платьев-то?
Лидуня переворачивала платьишко задом наперед и шла на бревна к общественности в чистом платье. Она интуитивно чувствовала, что важен фасад, а на тыл не всякий посмотрит.
Она же преподала городской Лидушке из культурной семьи мастер-класс по матерщине. Странно, но Лида не помнила, чтобы отец ее даже в пьяном виде матерился. Казалось бы, крестьянских кровей, прошел фронт, университетов, как говорится, не кончали, а вот поди ж ты… То ли уж так хотел соответствовать статусу руководящего товарища, принадлежащего к сливкам общества городка районного значения. То ли мама, матерщины не выносившая, умела как-то влиять? Во всяком случае, в их доме нецензурщина не звучала.
С каким же ужасом и тайным восторгом приобщалась Лидушка, благодаря Лидуне, к сокровищнице русского мата! Гостевать в селе у тети Раи Ломовцевой не означало целыми днями болтаться на улице, объедаться яблоками и сметаной, купаться в Грязном озере. Городских гостей задействовали в посильных работах. Лидушка с Лидуней пасли гусей на лужке за деревней. Тут-то Лида и попробовала на вкус впервые табуированные слова.
Табу, конечно, было формальным. Матерились в деревне все – женщины, подростки, старики. Если же родители слышали ругательство от своего дитяти, вступал в силу воспитательный момент.
– Как вмажу сейчас по губам! – звучало беззлобно, в профилактических целях. – Еще молоко на губах не обсохло!
– А вам можно?!
– Нам – можно! А ты шнурки под носом завяжи!
На пустынном лугу, где соглядатаев и наушников, кроме гусей, не было, можно было оторваться по полной. Они орали похабные слова, стараясь перекричать друг друга, и валились в траву от хохота. Слышала бы мама!
А какие частушки, соленые, скабрезные пела тетя Рая, когда случались застолья! Подразумевалось, что дети спят уже в соседней комнате, за шторкой, по крайней мере, обязаны! Она умела играть на балалайке, и когда гости доходили до нужной кондиции, наступал ее коронный выход. Лида одну до сих пор помнит, потому как исполняла ее перед матерью. Самую приличную.
Говорят, после измены
Куска хлеба не едят,
А у меня после измены
Килограммами летят.
Нет, не Жихаревка, вспомнила Лида. Жердяевка – вот как называлась деревня!
Все связи с той родней были оборваны, мама постаралась забыть свое прошлое как страшный сон. А ведь именно там Лидушке был преподан первый урок честности! Второго не потребовалось – она хорошо усвоила, что красть – стыдно.
Лазить по чужим садам считалось шалостью, а не воровством, и, когда Лидуня подбивала на этот подвиг сестру-гостью, она обставляла это дело именно как подвиг: слабо тебе? Почему-то на сей раз в действо был вовлечен и Вова, обычно тусивший со старшими братьями и сестрами.
Ночью они пролезли в соседский сад. Бобик тявкнул, было, но, видимо, признал соседей за своих. Яблоки, за которыми полезла троица, росли и в саду Ломовцевых, но были еще зелеными и кислыми, как яд, а у бабы Тани казались значительно более спелыми.
Набив, как карманы, заправленные в трусы майки яблоками и пообломав в темноте немало веток, малолетняя шпана благополучно возвратилась из своего рейда. Утром, рассортировав в схованке ночную добычу, троица вынуждена была признаться в своем заблуждении: яблоки в соседском саду еще не дозрели.
Выбросив их в уборную, дабы сокрыть улики, троица возвратилась домой и во дворе узрела бабу Таню собственной персоной. Баба Таня Зверева соорудила из своего фартука сумку на животе, присборив нижний конец и зажав его в кулак. Она стала как кенгуру-мамаша, но в ее сумке находился не детеныш, а яблоки. Не те, за которыми охотились воришки, а уже вполне созревшие, ранний сорт. Яблоня росла в другом конце сада. Тете Рае соседка рассказывала:
– У Семена же астма, мы в саду ночуем. Видим, лезут. А его, как на грех, приступ одолевает. Он бегом из сада, чтоб не раскашляться, не напугать детей. Вот, угощайтесь, надо будет тебе осенью саженец дать, у вас таких нет…
Городских гостей, конечно, выпороть не посмели. Лидуне пришлось отдуваться за троих.
…Гарик на Новый год признавал только живую елку, и именно – сосну. Гарик… Мое запоздалое непутевое счастье…
Лида подошла к палате, бесшумно открыла стеклянную дверь и замерла. Над кроватью Гарика склонилась фигура в белом халате. Дорожка ли света от слабого ночного коридорного освещения, что прочертила палату, движение ли воздуха коснулось его, но пришелец резко выпрямился и шагнул в сторону Лиды.
– Что, доктор? Все в порядке?
Доктор в медицинской маске грубо отшвырнул женщину, так, что она всей массой шлепнулась между койками (хорошо хоть, не на кого-то из прооперированных больных!) и рванул к выходу, только подошвы замелькали. Крайне изумленная реакцией нервного доктора, сильно ушибленная, Лида, женщина довольно габаритная, кряхтя, еле выкарабкалась из узкого пространства между койками. Твердо решив, что она этого инцидента так не оставит, направилась к койке мужа.
Уж утром она узнает, кто из врачей дежурил ночью. И маска не поможет! Мало ему не покажется. Тоже мне, эскулап! Врачеватель! Ну, испугался ее неожиданного появления, ну, не захотел разговаривать, чтобы не побеспокоить больных. Но драться-то зачем!
Гарик лежал у самого окна. Света от уличных фонарей и тусклого коридорного освещения было достаточно, чтобы заметить, что лицо у него как-то изменилось. Лида поняла это, бросив первый взгляд на лицо мужа.
Второй ее взгляд был – на штатив, к которому крепился пузырек с физраствором. Жидкости в пузырьке оставалось всего ничего.
Третий ее взгляд опустился на руку мужа с закрепленной в ней иглой с трубкой, по которой поступало лекарство. Сейчас иглы в руке не было, вместе с резиновой трубкой она валялась на полу.
Лида кричала так, что сбежалось все отделение: дооперационные больные бежали рысью, прооперированные ковыляли, как могли.
Гарика не спасли.
Лида, пережившая истерический припадок, обколотая успокоительным, пришла в себя в палате женского отделения.
«Не спасла», – ворочалась тупая ленивая мысль. – «Не уберегла».
Пока что она могла думать именно в таком ключе: я виновата! Если бы не торчала возле окна туалета, погрузившись в идиотские воспоминания, ничего бы не случилось.
Но как ОНИ узнали, что она выйдет в туалет? Следили за ней, что ли? Кто они? Как? Зачем?
Замначальника уголовного розыска Приволжского РОВД города Артюховска, капитан Бурлаков Вадим Сергеевич, сидел в своем кабинете над раскрытой папкой. Материалов в папке было – кот наплакал.
«Вот тебе, бабушка, и юрьев день!, – думал Бурлаков. – Вот тебе и безобидный алкашок! Вот тебе и бредовые речи Лиды Херсонской о покушении. Вот тебе и „бытовуха“, вот тебе и нерезонансное преступление…»