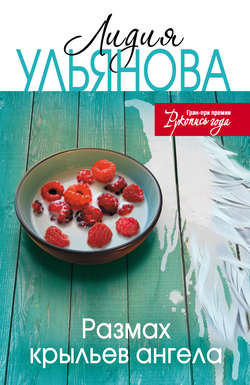Читать книгу Размах крыльев ангела - Лидия Ульянова - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть первая
Маша Македонская
Глава 5. Другая деревня
ОглавлениеПотихоньку-полегоньку втягивалась Маша в жизнь Лошков, познавала лошковский уклад. То, что ужасало и возмущало поначалу, со временем теряло остроту, становилось обыденным и вполне приемлемым.
Так, выяснилось, что отсутствие магазина вполне компенсируется наличием в Лошках «подворья»: в любой момент можно было заглянуть в трактир с черного хода, разжиться за соответствующую плату хлебом, маслом, сахаром и даже мясом. Здесь же приторговывали и спиртным. Зачем он нужен здесь, магазин, если существует завпрод Нюся? Нюся, тетка под пятьдесят возрастом и под сто весом, с «химией» мелким бесом на не обремененной волосами голове, маленькими поросячьими глазками на заплывшем жиром лице, несмотря на занимаемую высокую «хлебную» должность, обладала тонкой душой и не заплывшим жиром сердцем. Регулярно входила в положение бесхозяйственных лошковских молодух – знамо дело, люди творческие, – ссужала бакалею и гастрономию, не обходя вниманием и собственный карман. От этого хозяйство у самой Нюси было справным, зажиточным, сплетничали, что в доме у нее аж три телевизора и два холодильника. Маша же поражалась не столько Нюсиному достатку, сколько ее лицу: каждый раз при встрече с изумлением отмечала, что никогда прежде не видела лица в целлюлите. Нюся живо напоминала Маше Луну – совершенно круглое и плоское, блестящее лицо ее было словно изрыто кратерами, один в один как в книжке про Незнайку на Луне.
Нюся приехала в Лошки на завидное место при продуктах из Норкина и жила вместе с дочкой, окончившей год назад норкинскую школу, да так и застрявшей на перепутье в выборе жизненной стези. Нюся дочку не торопила, та же слонялась по поселку и регулярно ездила в Норкин за свежими газетами с брачными объявлениями. Сильно вводя мать в разор практически оптовыми закупками конвертов и бумаги, Светка одна, похоже, выполняла план норкинского почтового отделения по движению корреспонденции.
– Ему двадцать лет, – сильно растягивая слова, нажимая на букву «а», рассказывала она Маше об очередном своем почтовом избраннике, – он олигарх…
– А не олигофрен, ты точно запомнила? – иронично переспрашивала Маша, сама себя ругая за недоброту, дивясь, как это взрослая девица может верить во всякий бред про двадцатилетнего олигарха с обратным адресом, прямо указывающим на места лишения свободы.
– Я же тебе говорю, олигарх, – тянула Светка, – у него всякие заводы и фабрики, он меня обещал в Москву пригласить… Потом, когда освободится.
Однажды Машка, решив заняться самообразованием и узнать побольше об истории края, попросила Светку привезти ей из норкинской библиотеки что-нибудь про старообрядцев. Так вот, Светка просьбу выполнила, привезла. Привезла выцветшую, потрепанную книжицу «Советские обряды и традиции»—советская эпоха ассоциировалась у Светки со временами старыми, а из слова «старообрядчество» выхватила она вторую часть, касающуюся близких ее молодому, трепетному сердцу гаданий и обрядов.
Между прочим, Степаныч в глаза называл Светку Эллочкой-людоедкой. Против благородного имени Элла никто ничего не имел, но за людоедку Степаныч был раз и навсегда отлучен Нюсей от продуктовых запасов, полагалась ему от Нюсиных щедрот лишь выпивка.
У Марии же Нюся, когда пришел контейнер с вещами, с радостью выменяла на продукты бесполезную стиральную машину – у Нюси, как у живущей прямо на «подворье», всегда рядом с провиантом, был водопровод! Машину посудомоечную, такую же бесполезную, Маша отдала Александре, в музее водопровод тоже был.
Разбирая вещи из контейнера, Маша как чуждое и неуместное повертела в руках прежние свои вещи: кожаные туфельки с бантиками от «Бали», сапоги на шпильке «Тодс», розовое пальтишко «Макс Мара», да еще много всего… Повертела и убрала в чемодан, чемодан засунула подальше на чердак.
Про Машу быстро пошли по Лошкам слухи, что она врач из Петербурга, – Македонский постарался. Здесь, в отсутствие квалифицированной медицинской помощи, врач был на вес золота, хоть и без врача научились выкручиваться: простуды, несложные травмы лечили самостоятельно, а более серьезные случаи везли в Норкин, в райбольницу или же привозили врача оттуда. Но это не зимой, зимой часто и дороги заносило так, что не пройти, не проехать.
Машины возражения, что она никакой не врач, а фармацевт, да еще и третий курс даже не окончила, в расчет не принимались. Фармацевт, он кто? Аптекарь. Вот видите, почти что врач. Да еще из Петербурга! «Инкогнито из Петербурга» называла себя Мария, безумно страшась чьей-нибудь очередной болезни.
Врачом Маша не хотела быть никогда. Сама себе не отдавая отчета, всей душой противилась стремлению бабушки пристроить ее в медицинский. Ну и что, что семья потомственных врачей? Ну и что, что уже много лет? В конце концов, не Маша первой нарушила традицию, Машина мама медицинский закончила, а по специальности не работала никогда. Сначала Машку родила, а потом устроилась техничкой в геологическую экспедицию, чтобы быть поближе к Машиному отцу. Так и ездила с ним до последнего их дня.
Машиным коньком всегда была химия, она почитала ее за лучшую из наук. Приходила в восторг от стройности кристаллических решеток, выверенности логических формул, беззаветно поклонялась таблице Менделеева. Как орехи щелкала она безумные уравнения и словно «Отче наш» почитала любимую присказку школьной химички Аллы Игоревны: «Окисление и восстановление – две стороны единого процесса». Поступать Маша хотела только в «Техноложку». Но в одиннадцатом классе под уговорами бабушки все же сдалась, пошла на компромисс. В самом деле, химико-фармацевтический, если разобраться, тоже сплошная химия и к медицине близко.
Без лекарств Маша не мыслила себе человеческой жизни. Собираясь в дорогу, придирчиво и грамотно собирала аптечку, о которой ей своевременно и услужливо напомнила вездесущая Сонькина. От кашля, от простуды, от расстройства желудка, от температуры… Йод, зеленка, бинты и пластырь, пластырь перцовый, антисептический раствор, бинт сетчатый, жгут… Антибиотики, сульфаниламиды, анальгетики, антигистаминные препараты…
В Нозорово, за четыре километра, Мария ходила три раза в неделю за молоком. Отвел ее туда, к молочнице, опять-таки Степаныч.
Степаныч словно в высший свет выходил: надел синие, от позапрошлой моды кримпленовые брюки, бежевый «клубный» пиджак, осевший в Лошках после заезжего английского гостя, рубашку тонкого полотна в мелкую полоску – из того же источника. Но на ногах упорно красовались разноцветные тапки: один синий, под цвет брюк, другой коричневый, в тон пиджака. Пояснил Маше, что ботинки у него тоже имеются, да боится ноги намять в такую даль. И Незабудку свою в этот поход не взял, дома оставил.
В общем, сопровождал Машу в Нозорово не хухры-мухры, а истинно кавалер. Слава тебе господи, Македонский при сем не присутствовал, не допустил бы.
Всю дорогу Степаныч рассказывал Маше про старообрядцев:
– Вся эта беда, Маша, еще в незапамятные времена приключилась, в семнадцатом аж веке. В Русской церкви к семнадцатому веку свои устои образовались, своя обрядность. Ну и что, что от других мировых православий отличные – всех устраивало, все решениями Стоглавого собора закреплено. А в 1649 году пожаловал в Москву иерусалимский патриарх Паисий с визитом. Типа как нынче друг к дружке с государственными визитами катаются. Ну и надул этот Паисий царю Алексею Михайловичу в уши, что непорядок, мол, ваши новшества, ересь одна. Царь испужался, углядел в этом удар по престижу России. Вот таким образом причиной реформы стало стремление светской власти сблизить богослужебные обряды и традиции Русской церкви с обрядами и традициями других православных церквей, Греческой в первую очередь.
Маша с удивлением отметила про себя, что Степаныч как-то сам собой сбился с характерного для него языка на правильную, лекторскую речь.
В 1652 году патриарх Никон волевым решением заменил старинные русские православные обряды на новые, по греческому образцу. Креститься отныне было положено не двумя, а тремя перстами, во время крестного хода двигаться против солнца, «аллилуйя» петь трижды, а не два раза. И имя Господа предписано было по-новому писать – Иисус вместо привычного всем Исус. Отдельные слова при богослужении поправили, другие нововведения сделали. Нам сейчас странным кажется, мелочи вроде бы, а в те времена это многие восприняли как недопустимые изменения, введение «новой веры». А в довершение всего старые, неисправленные иконы и книги по велению царя подлежали уничтожению. Люди противились изменениям, начались возмущения, начался раскол в обществе, и царь сам возглавил борьбу с расколом. Староверов, приверженцев старых религиозных традиций, жестоко преследовали, люди семьями, деревнями снимались с насиженных мест, бежали в глухие места, подальше от царского и патриаршего ока. В глухомани – на Севере, за Уралом, в Заволжье – возводили новые поселения, строили раскольничьи скиты, где молились по-старому. Даже монахи Соловецкого монастыря отказались вначале подчиняться нововведениям, пришлось властям организовать осаду монастыря войсками. Монастырь яростно сопротивлялся целых семь лет, называлось это Соловецким сидением, но и они не устояли.
Единственным епископом, поддержавшим раскол, был епископ Павел Коломенский, после его смерти не осталось в старообрядчестве ни одного архиерея, а только архиерей мог новых священников на сан рукополагать. Туго стало со священниками, возникла, как течение, беспоповщина, когда одна часть раскольников вообще отказалась от священников, жизнью общин руководили наставники, люди наиболее авторитетные и в Писании сведущие. Староверы оставались фанатично преданы старине, категорически не принимали нового, в том числе и светского, отказывались общаться со сторонниками новой веры. Ждали воцарения Антихриста, близкого конца света, считали, что спастись можно только огнем, самосожжением. Поджигали себя целыми деревнями с малыми детьми и стариками, доводя протест до изуверства.
Менялись на Руси цари, менялось и отношение к раскольникам. При Петре I, двух Екатеринах, Александре I гонения прекращались, при Анне Иоанновне и Елизавете Петровне, при Николае I усиливались. Но при любой власти, даже самой либеральной, старообрядцы были ограничены в правах, пропаганда их образа жизни категорически воспрещалась. Под запретом были строительство новых церквей и часовен, ремонт старых, печатание книг, писание икон. Старообрядцы, побитые жизнью и судьбой, всегда жили дружно, работали упорно. Хозяйства у них были сильными, зажиточными, даже крестьяне в лаптях не ходили, больше в сапогах, поэтому попали они в жернова и с приходом Советской власти. Борьба со старообрядцами превратилась в борьбу с кулачеством как классом. Церкви и монастыри закрывались, малочисленные старинные иконы и книги сжигались.
– Знаешь, Маша, про них, про староверов, еще Солженицын сказал, что они на три столетия раньше других постигли проклятую суть Начальства. Люди-то чем виноваты были? Живут себе, не пьют, не сквернословят, не курят, семьи свои берегут, работают много, все по вере своей, а их к сектантам приравняли. Последние вот только годы, как перестройка началась, так и гонения прекратились. Староверы стали выходить из глуши, селиться с другими людьми, а мирские люди к ним селиться стали. И оказалось, что цивилизация далеко вперед ушла, отстали старообрядцы. Представляешь, кругом радио, телевидение, транспорт, Интернет, зазорным в обществе не считается водку пить и табак курить. А они не пьют, не курят, даже сахара не едят и у врачей считают грешным лечиться.
– И что же делать? – Маша казалась глубоко обеспокоенной существованием этих людей. – Как же им быть теперь? Обратно в тайгу прятаться?
– По-разному, Маша. Большинство-то поняли, что надо под современную жизнь подлаживаться. Как бы сильна ни была вера, а пропадут, если будут слепо своему учению следовать. А вера у них тяжелая. Молитвы длинные, посты очень строгие. Волосы стричь и бриться нельзя, женщины всегда платок носят, даже ночью, ходят все только в юбках. Нынче многие из общин в мирские люди выходят, на мирских женятся, хоть это как бы верой и запрещено. А дети? Детям сейчас образование давать нужно, приходится их в школу пускать, где мирские дети учатся. Так старообрядцы теперь девочкам-школьницам разрешают платки не носить и брюки на уроки физкультуры надевать. И Интернет дети учат, потому что он в школьную программу входит. Тебе это, должно быть, смешно, а ведь невиданный прогресс.
– А молятся они где?
– Ох, трудный вопрос. По-разному. В некоторых селах есть старообрядческая церковь, а в некоторых нет. Если церкви нет, то они дважды в день в доме старшего из общины собираются, там молятся. Некоторые молятся дома, семьями.
После этих рассказов Маша входила в деревню с опаской, ожидала увидеть здесь старых, угрюмых ортодоксов, борода до колена, замшелых дремучих старух, сердито пришепетывающих по углам, да полный откат лет этак на двести назад, ко времени основания поселения. Нозорово было деревней старинной, с традициями.
Ничего подобного. Нозорово оказалось деревенькой светлой, с веселыми, пестреющими цветами палисадниками, раскрытыми белыми ставнями, детскими голосами со дворов и даже автомобилями на вымощенных булыжником улицах. К молочнице нужно было идти через всю деревню, Маша увидела по пути магазин, школу, старательно выведенную от руки надпись: «Милиция». Совершенно обычная деревня, вроде той, где прошло Машино «летнее» детство. Бабушка считала, что ребенку категорически противопоказан город, и каждое лето снимала под Сиверской дачу.
И люди им навстречу попадались совершенно обычные: женщины в пестрых летних платьях, в платочках на голове. Полуголые дети на велосипедах. Мужчины с удочками, почти все с окладистыми бородами. Многие со Степанычем здоровались, перебрасывались словами. Машу Степаныч представлял так:
– Знакомьтесь, Мария, аптекарь из Ленинграда.
Маша моментально вспомнила старую рекламу, где безумная аптекарша Мария ходила по квартирам и разносила людям какие-то чудодейственные лекарства, излечивающие моментально и навсегда. Нозоровцы, похоже, рекламу тоже помнили, смотрели на Машу с веселым изумлением, с затаенной надеждой:
– Что такое? Правда из Ленинграда? Из теперешнего Питера? Врач? Да-а.
Мария односложно поправляла с вежливой улыбкой:
– Аптекарь.
Несмотря на наличие в Нозорове милиции и даже местного органа самоуправления, неформальными лидерами в деревне являлись три действительно старых, бородатых деда. Они составляли нечто типа совета старейшин, с ними принято было согласовывать все важные решения, вплоть до выбора спутника жизни. Они блюли в деревне порядок, заботились о сохранении традиций предков. Например, не имея на то их одобрения, в местном магазине никогда не торговали табаком. Именно старики наложили вето, когда решался вопрос о том, не охватить ли и Нозорово бизнесом, не сделать ли его местом паломничества туристов. Старообрядцы испокон века от людей хоронились, уходили подальше от цивилизации, в тайгу, в скиты – и нозоровцы решительно отказались стать местной Меккой и Мединой. Даже посул заасфальтировать под такое дело дорогу до самого Норкина не помог.
В доме одного из старейшин и жила молочница Зина, приходившаяся деревенскому лидеру кем-то вроде невестки, женой среднего внука.
Старика-хозяина, на Машино счастье, видно не было, а сама молочница оказалась пухленькой, улыбчивой теткой в платочке, длинной, темной юбке и футболке с надписью «Nike» во всю спину. Первым делом показала она Маше свою корову, в крупных черно-белых разводах Зорьку. Даже корова показалась Маше какой-то староукладной, она смотрела на Машу внимательно и печально, словно прикидывала, а стоит ли давать свое молоко такой тетехе.
Зина словоохотливо разъяснила Марии разницу между утренним и вечерним молоком, рассказала почему, например, утреннее молоко никогда не имеет посторонних запахов и посоветовала приходить утром. Цену назначила приемлемую и обещала оставлять через день по два литра.
– Ты не подумай, – с какой-то даже обидой говорила Зина Маше, – мы люди правильные, не секта, хоть и вера у нас своя. Вот злые языки говорят: попади к староверам в деревню, так с голоду помрешь, никто не накормит. А это не так. У нас всех привечают, гостям рады, только посуда для них другая, положено так.
Степаныч и тут приплел к разговору аптекаря из Ленинграда, и, извинившись, Зина попросила на прощание:
– Вы уж, Машенька, меня простите, что я сразу с просьбой. Не посмотрите ли соседку нашу, Гавриловну? Совсем расхворалась бабка, врача до себя не пускает, а все хуже и хуже, а ну как помрет. Рука у нее гниет. Она топориком по руке тюкнула, не заживает никак.
Что будешь делать? Маша пошла за Зинаидой.