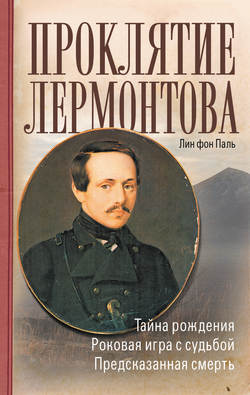Читать книгу Проклятие Лермонтова - Лин фон Паль - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть 1
Тарханы
Ученики и учителя. Внучок – баловень, домашний тиран?
ОглавлениеМишелю шел уже двенадцатый год, а образован он был для своего возраста слабо. Проще говоря, его учили стараясь не переусердствовать с нагрузками. Француз Капэ, кроме хорошего, яркого родного ему языка и воспоминаний о войне двенадцатого года, на которой он был ранен, попал в плен и чудом остался жив, да военных навыков – верховой езды и фехтования, – ничего ему дать не мог. При изучении французского он упирал на грамматику и заставлял ученика страницами списывать тексты упражнений. К семи годам мальчик делал это уже бойко. Немка Христина Осиповна Ремер научила его своему родному языку и привила любовь к немецкой литературе. Правда, желание бонны привлечь любовь ученика к Гёте едва не поставило бабушку и немку в тупик. Мишель тут же потребовал оленя, раз в книжке говорилось об Оленьем овраге! Тут же для него были приобретены детеныши оленя и лося. Судьба обоих животных, превращенных в материал для наблюдений над живой природой, печальна. Оленя, когда он вырос и стал стремиться на свободу, ходившие за ним крестьяне уморили голодом, а взрослого лося бабушка приказала забить на мясо.
Какие начатки общих знаний дал доктор Леви – сказать трудно. Но, скорее всего, развивал общий кругозор и интерес к естествознанию и математике. Крепостной художник поставил Мишелю руку и научил работать с красками. У кого мальчик брал уроки музыки – неизвестно. Известно только (из воспоминаний Акима Шан-Гирея), что он их ненавидел, хотя музыку очень любил. (Скорее всего, нотной грамоте и игре на фортепьяно учила его Мария Акимовна.) Он умел читать и писать на родном языке, и этому обучила его, скорее всего, старшая сестра Николеньки Давыдова, Пелагея, которую с этой целью и пригласили пожить в Тарханах, там она и жила с 1820 по 1824 год. Маленький Николай и кузен Миша Пожогин тоже жили в Тарханах и учились вместе с Мишелем. А тот в детстве больше наук любил игры либо пребывал в мечтах. Но его познания в учебных предметах были бессистемными и разрозненными. С такими знаниями нечего было думать о дальнейшем серьезном обучении. Бабушка это отлично видела, и теперь, когда Мишель стал вполне здоров, решила создать для внука «школу на дому».
Елизавета Алексеевна была дальновидна: Мишель не будет стараться, если не с кем соревноваться. И она превратила Тарханы в домашнее учебное заведение, пригласив учиться вместе с Мишелем подходящих по возрасту детей. Как прежде создала она для него «потешное войско», так сформировала теперь «домашнюю школу». В соученики Мишелю были определены оба его кузена (дети сестры Юрия Петровича) Пожогины-Отрошкевичи – Михаил и Николай, два брата Юрьевы, князья Максютовы – Петр и Николай, а также Аким Шан-Гирей, Николай Давыдов, были и другие мальчики, имена которых теперь неизвестны. Проще говоря, в Тарханах появился учебный класс. А у подрастающего Мишеля – друзья детских лет.
Шугаев (это именно он «нашел» младенцу Мишелю несуществовавшую бонну Сесилию Федоровну и описал сильный удар кулаком в лицо Марии Михайловне, повлекший ее смертельную болезнь), собравший о Лермонтове-отроке множество сплетен, иначе как маленьким деспотом Мишеля не называет. Так вот, из воспоминаний всех современников, бывавших в те годы в Тарханах, он выбрал только те, где Мишель был показан не в лучшем свете. Припоминал слова его детских друзей, что Мишель вспоминается с нагайкой в руках, писал о чрезмерной требовательности к другим детям и желании всегда настоять на своем. Ему вторил и родственник Елизаветы Алексеевны Илья Арсеньев: «В числе лиц, посещавших изредка наш дом, была Арсеньева, бабушка поэта Лермонтова (приходившаяся нам сродни), которая всегда привозила к нам своего внука, когда приезжала из деревни на несколько дней в Москву. Приезды эти были весьма редки, но я все-таки помню, как старушка Арсеньева, обожавшая своего внука, жаловалась постоянно на него моей матери. Действительно, судя по рассказам, этот внучок-баловень, пользуясь безграничной любовью своей бабушки, с малых лет уже превращался в домашнего тирана. Не хотел никого слушаться, трунил над всеми, даже над своей бабушкой, и пренебрегал наставлениями и советами лиц, заботившихся о его воспитании». Внучок-баловень, домашний тиран, мучитель бабушки, злой мальчик, изводивший ровесников… Только вот ведь: бабушка души в нем не чаяла (правда, по-столыпински), а друзья его детских игр на обиды не жаловались.
На самом деле тарханский барчук, конечно, чувствовал себя хозяином в доме бабушки и требовал от равных ему по рождению мальчиков полного повиновения, и это можно, конечно, расценить как деспотизм, если бы к самому себе он не относился таким же точно образом – если что обещал, то исполнял, даже когда это давалось большим трудом. Именно так и объясняли настойчивость Мишеля его друзья по детским играм. Учтем еще и то, что он долго считался больным ребенком, а ему пришлось учиться общаться с мальчиками на равных, без поблажек. Бабушка, устраивая школу, отлично понимала, что в детском обществе, где рано или поздно ее внук окажется, умение ладить со сверстниками ценится больше успехов в учебе. В этом плане «тарханская школа» свои задачи выполнила. Мишель привык к детскому коллективу. Другое дело, что ладил он только с теми, кого уже знал, а любое новое лицо воспринимал с недоверием. Своим внутренним миром, мечтами он и вообще ни с кем не желал делиться. И резко отшивал тех, кто пытался влезть в душу.
Для преподавания необходимых школьных предметов появились наемные учителя. Кроме того, что занятия языками вели уже известные – горбоносый француз Капэ и старушка-немка Христина Осиповна, к ним добавился еще и учитель греческого и латыни, грек по национальности, патриот своего отечества, бежавший после разгрома в Греции национально-освободительного движения. Мишелю древние языки не пришлись по душе, а грек, вероятно, был еще и отвратительным педагогом, так что, как рассказывал Висковатов, он кончил тем, что стал обучать местных крестьян скорняжному искусству – как из собачьей шкуры сделать приличный мех. В отличие от Мишеля крестьяне оказались хорошими учениками, да и преподавал им грек не латынь с древнегреческим, а практическую науку, которую знал лучше древних языков, и скоро в Тарханах расцвел скорняжный промысел.
Очевидно, в «тарханской школе» учили немного истории, немного географии, потому что в письме из Москвы «тетеньке» Марии Акимовне Мишель сообщал, что подготовке к экзамену в московский благородный пансион сильно помогли занятия в Тарханах. Однако в Тарханах серьезно учиться, как бабушка ни билась, Мишель все же не желал. Ему больше нравились занятия разными искусствами, особенно рисованием, лепкой и театром. Рисовать он стал раньше, чем начал говорить, потому неудивительно, что от мела он перешел к краскам и с удовольствием изображал все, что видит вокруг или воображает.
От поездки на Кавказ 1825 года в альбоме матери сохранился его рисунок: пруд в имении Хастатовых, мостки, на которых стоит сам автор, вид далеких гор, верстовой столб и бабушка у этого столба. Вахидова трактует эту картинку как отчаянное стремление мальчика остаться рядом со своим отцом Бейбулатом, однако это самый обычный детский рисунок. Может, окрашенный грустью, что лето идет к концу и пора уезжать, но никак не трагический и не на разрыв аорты. Интересно, какую сокровенную правду увидела бы исследовательница в другом творении Мишеля – в вылепленной из красного воска сцене спасения Александра Македонского Клитом во время перехода через Граник? Наверняка усмотрела бы и в Александре Двурогом портрет своего горца! Впрочем, как вспоминал Аким Шан-Гирей, больше всего юному скульптуру удались слоны и колесница, украшенные бусами, стеклярусом и фольгой. Мальчику вообще нравилось изображать героические сцены. Даже в старшем, уже подростковом возрасте, иллюстрируя свои поэмы, он с удовольствием изображает сражения, захват пленных, дикие скачки наперегонки со смертью.
Ему нравились герои, что поделать! Всем в этом возрасте нравятся герои, все сравнивают себя с героями. Великими полководцами, бесстрашными разбойниками, блистательными авантюристами. Миша Лермонтов еще не писал ни стихов, ни прозы. Аким Шан-Гирей вспоминал, что даже его сочинения, которые задавали им писать в Тарханах, ничем не выделялись из других школьных упражнений в изящной словесности. У него пока что было только одно средство отобразить мир – через рисунок или лепные фигурки. Причем сначала был только рисунок. Плоский мир. Потом, неожиданно, то, что прежде удавалось только нарисовать, стало обретать форму, выходить за границы плоскости. Теперь полюбившиеся сцены и лица можно было рассматривать со всех сторон, щупать пальцами, чувствовать фактуру материала. Мир иллюзий становился ближе. Это – как облака, на которые он обожал смотреть. Только фигуры в облаках были почти бесплотны, их уносило малейшим порывом ветра. А то, что творили его руки, – оно оставалось. Запечатленные формы. Запечатленные чувства. Пройдет совсем немного времени, и он поймет: то, что можно сотворить из бесформенного податливого воска, можно сотворить и из слов, если поставить их в правильном порядке, наполнив собственным дыханием. Но пока что он умел только лепить.
Страсть к лепке образовалась после всеобщего детского увлечения театром марионеток. Бабушка даже была вынуждена, чтобы доставить Мишелю и его товарищам удовольствие, выписать в Тарханы мастера по куклам, который изготовил все необходимое для детских представлений. И в доме начался полнейший восторг. Мальчики разучивали выбранные для постановки пьесы, а потом давали для взрослых представления. Сделанных мастером кукол оказалось мало, материал, из которых мастер их изготавливал, Мишелю не понравился, и он стал лепить кукольные головы из привычного ему воска. Лепка из воска напоминала ему другое излюбленное занятие – ваяние «скульптур» из мокрого снега, что он освоил совсем еще маленьким мальчиком и очень любил.
Но с такими, пусть и превосходными, умениями в серьезном учебном заведении делать было нечего. Увы! Это в лермонтоведении принято писать о тарханском обучении Лермонтова как о превосходном домашнем образовании. Однако кто были его учителя? Добрый и полюбивший своего питомца наполеоновский солдат, старая немка – они могли лишь научить говорить и писать на французском и немецком, пусть и свободно. Из естественных наук, географии и истории он знал очень немногое. Что же касается русского языка и литературы как учебного предмета – это была вообще нетронутая пустошь. Мишель писал со страшными синтаксическими ошибками, ставя знаки препинания как придет в голову. Практически ничего не читал: ему больше нравились подвижные игры, в основном – военные. Такова реальность его домашнего образования.
У московских детей, поступающих в благородный пансион при Московском университете, были совсем другие учителя – именитые, строгие, готовящие отроков точно по программе. Это стало понятно бабушке только в 1827 году, когда она привезла внука в Москву для зачисления в этот пансион. Михаил Юрьевич Лермонтов на фоне других мальчиков выглядел плохо подготовленным провинциалом, деревенским недорослем. Он к тому же считался чуть ли не переростком: в тот благородный пансион, на который уповала бабушка, принимали только до четырнадцати лет. С девяти! Не сидеть же великовозрастному Мишелю рядом с девятилетними детьми! Да и кто позволит? Ему нужно было поступить в класс, где учились мальчики постарше, но вот тут-то и выяснилось, что знаний, полученных в Тарханах, хватит для зачисления в начальный класс, но мало для обучения со сверстниками. А Мишелю – уже тринадцать. Через год будет четырнадцать. Времени почти не осталось. Не возьмут в пансион, придется отдавать в какую-нибудь военную школу. Военных школ бабушка боялась, потому что на войне убивают, и не за тем она растила Мишеля, вытаскивала его из болезней, ставила на ноги, чтобы нелепо потерять. Его будущее Елизавете Алексеевне виделось ясно: закончит пансион и сразу перейдет учиться в Московский университет, а оттуда выйдет уже с чином и займет в обществе подобающее место, как все Столыпины. Перед ним будут открыты все двери, выберет занятие по душе.
Увы, увы, увы! Хоть и выглядел Мишель гораздо младше своего возраста из-за небольшого роста, но метрику не подделаешь, а там ясно указан год, когда он родился. Хорошо хоть, что в сходной ситуации оказались и другие провинциалы. Детей привезли, а требования к познаниям чад оказались завышенными. И хотя Елизавете Алексеевне не хотелось вступать в расходы, ею не предвиденные, любовь к Мишелю и желание пристроить его в хорошее место взяли верх над бережливостью: она стала срочно искать для внука репетиторов, а чтобы тому не было одиноко – сговариваться со знакомыми, поселившимися в Москве по-соседству, – Мещериновыми, у которых было трое сыновей – Владимир, Афанасий и Петр. Об этом – чуть ниже. А сам Мишель еще не понимал, что так кончилось его затянувшееся тарханское детство и началось московское отрочество. Зачисление в пансион его волновало мало. Гораздо больше мыслей и чувств вызвала остановка по дороге в Москву в имении отца, Юрия Петровича.