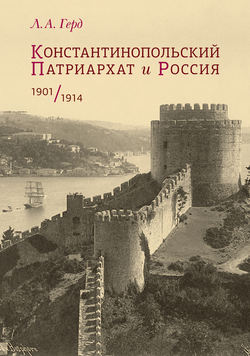Читать книгу Константинопольский Патриархат и Россия. 1901–1914 - Лора Герд, Л. А. Герд - Страница 8
Русская политика на Балканах в 1901–1914 гг. Общий обзор
Подготовка Балканского союза в 1911–1912 гг.
ОглавлениеПосле боснийского кризиса положение на Балканах стало взрывоопасным. Российское правительство постепенно осуществляло взятый в 1908 г. курс на создание союза балканских государств, который рассматривался в качестве преграды австрогерманской экспансии на Ближний Восток. В 1909 г. произошел принципиальный поворот во внешней политике России – она отказалась от идеи реванша на Дальнем Востоке и от идеи похода на Индию для подрыва британских позиций, и сосредоточилась на противодействии Германии и Австро-Венгрии. Осенью 1910 г. в составе дипломатического ведомства произошли перемены: А. П. Извольского на посту министра иностранных дел сменил С. Д. Сазонов, товарищем министра стал А. А. Нератов, а занимавший этот пост Н. В. Чарыков был в 1909 г. направлен послом в Константинополь. Новый министр иностранных дел на протяжении всех шести лет своего управления МИДом последовательно занимал позицию, ориентированную на сотрудничество с Антантой[58]. Что касается Н. В. Чарыкова, его политическая программа состояла в создании всебалканской конфедерации с участием Турции как оплота России против Австро-Венгрии; по прибытии в Константинополь, в начале августа 1909 г. он вел переговоры о встрече Николая II с султаном[59]. В 1911 г. русское правительство снова сочло возможным поднять вопрос о проливах. В октябре 1911 г. Н. В. Чарыков предпринял демарш с целью изменения режима проливов со стороны турецкого правительства. Одновременно ставился вопрос о железных дорогах и установлении прочных добрососедских отношений с балканскими государствами, в том числе с Турцией. Неудача этого предложения, сорванного английской дипломатией, в очередной раз показала невозможность самостоятельных наступательных действий России в отношении Турции[60].
С. Д. Сазонов
Вместе с тем итало-турецкая война 1911 г. послужила стимулом, побудившим балканские государства объединиться между собой и начать войну против общего врага – Турции. Русская дипломатия деятельно способствовала образованию такого блока. Полного единства в русских дипломатических кругах по этому вопросу не было. А. П. Извольский стремился создать блок славянских государств; он считал, что Сан-Стефанский договор 1877 г. должен по-прежнему оставаться основой русской политики, но ему следовало претерпеть определенные изменения для удовлетворения интересов Сербии[61]. П. А. Столыпин, С. Д. Сазонов и Н. В. Чарыков полагали на том этапе наиболее целесообразным создание всебалканской конфедерации с участием Турции[62]. В конце 1908 – начале 1909 г. в ходе борьбы политических группировок вокруг последствий боснийского кризиса направление политики русского правительства менялось несколько раз. Потерпев неудачу в создании балканского союза с участием Турции, направленного против Австро-Венгрии и Германии, Россия согласилась на формирование блока из христианских государств Балканского полуострова, что было в русле ее традиционной политики в Восточном Средиземноморье[63]. Идея создания Балканского союза нашла широкую поддержку в среде как неославянофилов, так и публицистов, стоящих на эллинофильских позициях. Желая успеха этому «крестовому походу», профессор Петербургской духовной академии И. И. Соколов связывает его с выполнением традиционной миссии России на Ближнем Востоке[64].
Работа России над созданием Балканского союза началась 18 апреля 1909 г., когда состоялась встреча сербского короля и болгарского царя. В феврале 1910 г. в Петербург прибыла болгарская делегация во главе с царем Фердинандом и премьер-министром А. Малиновым; предлогом к визиту была благодарность за признание Россией независимости Болгарии. Целью посещения было обсуждение будущих границ Болгарии: заявка болгар на территорию, предусмотренную Сан-Стефанским договором и даже несколько более (Болгария претендовала на Фессалонику, Скопие (Ускюб), Тетово, Адрианополь и восточную границу по линии Энос-Мидия), не была поддержана А. П. Извольским. Переговоры продолжались в Софии, но так и не были доведены до конца. Преемник А. Малинова на посту премьер-министра Болгарии И. Гешов приступил к увеличению личного состава армии и милитаризации страны. В сентябре 1910 г. был выдвинут проект сербско-болгарского смешанного комитета. В 1911 г. возобновились русско-болгарские переговоры о военной конвенции. Дальнейшему укреплению отношений способствовало посещение в августе 1911 г. болгарским князем Борисом Киева, где он присутствовал при открытии памятника Александру II и встречался с Николаем II[65].
Самым деятельным сторонником сближения Сербии и Болгарии был посланник в Сербии Н. Г. Гартвиг. Говоря о задачах России на Ближнем Востоке, он подчеркивал необходимость для нее встать твердой ногой на берегах Босфора, у выходных дверей «Русского озера», т. е. Черного моря; «облегчить призванным ею к самостоятельной жизни славянским народностям достижение их заветных идеалов, что сводится к полюбовному между ними разделу всего турецкого достояния на Балканском полуострове. Осуществить свою собственную вековую историческую задачу»[66]. Несколько более осторожными были его коллеги в Софии А. В. Неклюдов и Л. В. Урусов, опасавшиеся неготовности России к вступлению в войну против центральных сил. В ходе переговоров, поддержанных также Францией, болгарский и сербский министры иностранных дел И. Е. Гешов и М. Милованович договорились о приблизительном разделе территорий: Сербия получала право на территорию к северо-западу от Шар-Планины (Новобазарский санджак, Косово, Метохию и др.), Болгария – на территорию Фракии к востоку от Родоп и р. Струмы. Особенно острые споры вызвали районы Ускюба (Скопие), Велеса и Струги в Македонии. Сербии эта область была нужна для прикрытия будущего выхода к Адриатике и линии Дунайско-Адриатической железной дороги. Для Болгарии на Ускюб и Велес шли наиболее удобные пути в долину Вардара, к центру ее будущих македонских территорий. Так и не договорившись между собой, сербский и болгарский представители согласились на обозначение «спорной зоны», судьба которой подлежала арбитражу России. Накануне подписания договора, в апреле 1912 г., болгарская делегация во главе с председателем Народного собрания С. Даневым отправилась в Ливадию на встречу с Николаем II. 1 мая Данев поехал в Петербург, где встречался с С. Д. Сазоновым. Министр не советовал болгарам начинать активных действий; уклончивым был и его ответ на вопросы касательно Адрианопольского вилайета[67]. Наконец, 13 марта 1912 г. был подписан сербо-болгарский союзный договор; 12 мая союзный договор был дополнен подписанием сербо-болгарской военной конвенции[68]. Заключение сербско-болгарского союза в 1912 г. справедливо расценивается как крупная дипломатическая победа России над Австро-Венгрией на Балканах[69]. Одновременно с сербо-болгарскими происходили и греко-болгарские переговоры – уже без активного участия русской дипломатии, зато не без помощи Англии. Договор был подписан 29 мая 1912 г.; 5 октября состоялось заключение военной конвенции: в случае войны с Турцией Греция выставляла 120 тыс. человек, Болгария – 200 тысяч[70].
Сыгравшая ключевую роль в формировании балканского союза, Россия, однако, вовсе не желала быстрого начала военных действий[71]. В сентябре 1912 г. С. Д. Сазонов через болгарского посланника в Петербурге убеждал софийский кабинет воздержаться от военного выступления и одновременно рекомендовал Порте немедленно приступить к реформам в Македонии. Более того, в начале октября в балканских столицах и в Константинополе русским правительством была вручена декларация, осуждавшая меры, способные нарушить мир. В Петербурге опасались, что война может привести к вмешательству Австро-Венгрии и Германии, а Россия, ослабленная русско-японской войной, по-прежнему не была готова к активным действиям на Балканах[72].
Однако результатов декларация не дала: 9 октября военные действия против Турции начала Черногория, 17 октября – Сербия и Болгария, 18 октября – Греция. Турецкие войска быстро терпели поражение на всех фронтах. Продвижение болгарских войск до линии Чаталджи (в 45 км от Константинополя) обострило вопрос о проливах. Это вызвало сильное беспокойство в Петербурге, – русское правительство, с одной стороны, опасалось закрытия проливов для иностранных судов, с другой – не могло допустить занятия болгарами Константинополя. Учитывая проавстрийские настроения царя Фердинанда, возможность международной оккупации Константинополя в случае его падения и военного выступления Австро-Венгрии и Румынии, русское правительство обратилось к Англии и Франции с призывом воспрепятствовать дальнейшему продвижению болгарской армии. Обращение России не было поддержано; напротив, британский кабинет видел в случае занятия Константинополя болгарами возможность осуществить выгодную для Англии международную охрану проливов, что привело бы к господству английского флота в восточном Средиземноморье. 7 ноября британский министр иностранных дел Э. Грей выдвинул проект нейтрализации проливов. Одновременно под предлогом защиты христианского населения с согласия Порты через Дарданеллы вошла союзная англо-французская эскадра. Проект отправки аналогичной русской эскадры через Босфор был отвергнут ввиду материальной необеспеченности подобной операции. Русское правительство, таким образом, настаивало на сохранении Константинополя и проливов в турецких руках, надеясь в будущем при более благоприятных обстоятельствах разрешить вопрос в свою пользу[73].
18 октября 1912 г. С. Д. Сазонов сформулировал следующие условия: 1) отказ великих держав от территориальных приобретений на Балканах; 2) признание балканскими государствами принципа равновесия сил, то есть их отказ от междоусобной войны; 3) сохранение за Турцией суверенитета над проливами и полосой территории, обеспечивающей их военную защиту[74]. Пассивная позиция С. Д. Сазонова встретила возражения в Совете министров. На заседаниях 19, 22, 29 ноября и 5 декабря 1912 г. обсуждался вопрос о боеспособности российской армии. Военный министр В. А. Сухомлинов ориентировал правительство на войну; его поддерживали панслависты, руководители военной партии во главе с в. к. Николаем Николаевичем и министры А. В. Кривошеин, С. И. Тимашов и И. Г. Щегловитов[75]. Выжидательное направление, однако, снова взяло верх.
В ноябре 1912 г. сербские войска вышли на Адриатическое побережье, что встретило сильное противодействие Австро-Венгрии; чтобы помешать созданию крупного южнославянского государства, Австро-Венгрия совместно с Италией выдвинули проект независимой Албании, которая должна была стать их орудием в борьбе против сербов и поддерживавшей их России. 3 декабря 1912 г. было подписано перемирие, а 17 декабря открылась конференция послов в Лондоне под председательством Э. Грея, которая была призвана подвести итоги Балканской войны. Инициатором созыва конференции была Россия, заинтересованная в скорейшем завершении войны. Кроме того, Россия надеялась сколотить новый союз балканских государств, включая Румынию, что должно было помочь ей в борьбе против центральной коалиции и решить проблему проливов[76].
Новый поворот событий с наступлением болгарской армии в направлении Константинополя в конце марта 1913 г. вызвал разногласия у держав: Англия была против взятия болгарами Чаталджи и предложила ввести в проливы международный флот; Франция, желая воспрепятствовать появлению России в проливах, предложила коллективную морскую демонстрацию; Австро-Венгрия открыто заявила, что не возражает против занятия болгарскими войсками Константинополя, что, по ее расчетам, должно было довести Болгарию до краха. Русское правительство, не находя благоприятной возможности для захвата проливов, уговорило болгар заключить перемирие и воздержаться от взятия Чаталджи; взамен была обещана помощь в разделе Македонии[77]. В целом усилия России на этом этапе были направлены на примирение между собой балканских государств, в первую очередь Сербии и Болгарии. 30 мая 1913 г. был подписан лондонский мирный договор, согласно которому Турция уступила своим противникам европейские владения по линии Энос-Мидия; Адрианополь вошел в состав Болгарии, Фессалоника, Эпир и Крит отошли к Греции. Нерешенным оставался вопрос о занятых греками островах Лемнос, Тенедос и Имврос, находящихся у входа в Дарданеллы, а также о статусе Афона[78].
Итоги первой Балканской войны, однако, не удовлетворили болгарское правительство: подстрекаемый Австро-Венгрией, Фердинанд 29 июня 1913 г. начал новую войну против своих бывших союзников, которая окончилась полным поражением; Турция заняла Адрианополь, а Румыния – южную Добруджу; порт Кавала переходил к Греции; территория Сербии увеличилась на 39 000 км2. Результаты войны были закреплены Бухарестским договором между Болгарией, Грецией, Сербией, Черногорией и Румынией (подписан 10 августа) и Константинопольским договором между Болгарией и Турцией (26 сентября). Требование России оставить в руках Болгарии порт Кавалу, выдвинутое на бухарестской конференции в августе, не было поддержано Францией. Распад Балканского союза явился тяжелым для России итогом Балканских войн; начало второй Балканской войны расценивалось как крупный неуспех русской дипломатии[79]. Однако и без того было ясно, что Балканский союз вряд ли мог быть долговечен. Как писал А. П. Извольский, «вторая Балканская война избавила нас от весьма тяжелой обязанности взять на себя разверстку Македонии между союзниками. Задача эта была абсолютно неразрешима и поссорила бы нас разом со всеми Балканскими государствами»[80].
Создание Балканского союза, в результате которого почти весь полуостров был освобожден от турецкого владычества, конечно, было важным достижением русской дипломатии. Однако потеря позиций в ходе лондонских конференций и очевидное поражение русской политики в итоге второй Балканской войны свело на нет этот успех и заставило политических обозревателей отрицательно расценивать все действия правительства в период 1912–1913 гг. Славянофильская и националистическая пресса обвиняла правительство в нерешительности и неспособности доводить дело до конца. Главная ошибка России заключалась, на их взгляд, в том, что она не вмешалась в войну и не оказала действенную помощь союзникам[81]. «Россия потеряла свой престиж на Балканском полуострове и особенно в Болгарии – вот одно из немаловажных последствий двух последних войн на Балканском полуострове,» – писал в конце 1913 г. один из журналистов-славянофилов. Внешним выражением перемены в болгарском обществе было падение русофильского кабинета С. Данева и замена его проавстрийским правительством В. Радославова. Единственной реальной выгодой, полученной Россией от ее политики, рассматривался факт невступления болгар в Константинополь, ценность которого также вызывала сомнения. «Таким образом, – продолжал тот же автор, – балканская политика России в последние два года едва ли не должна быть признана грубой ошибкой даже с точки зрения самой русской дипломатии; еще строже должна быть ее оценка, если мы будем оценивать ее с точки зрения общих интересов цивилизации и культуры»[82]. Как сложную и неблагоприятную для России склонен оценивать ситуацию на Балканах, сложившуюся в итоге обеих войн, и современный исследователь[83].
Балканские войны явились лишь прологом к Первой мировой войне. Получив освобождение от Турции, балканские народы не разрешили внутренних противоречий, а великие державы не получили удовлетворения своих амбиций – восточный вопрос так и не был разрешен. Как показывают документы конца 1913 – начала 1914 г., российский МИД, а также военное и морское ведомства по-прежнему считали, что страна не готова к широкомасштабным вооруженным действиям против Турции. С. Д. Сазонов высказывался против войны с Турцией и за сохранение ее власти над проливами и Константинополем. 23 ноября 1913 г. С. Д. Сазонов представил Николаю II доклад о необходимости готовиться к борьбе за проливы. В это время германские офицеры занимались реорганизацией турецкой армии, а Англия помогала восстанавливать флот, что представляло крайнюю опасность для России. Турция недолговечна, говорилось в этом документе. «Проливы в руках сильного государства – это значит полное подчинение экономического развития всего юга России этому государству. […] Кто завладеет проливами, получит в свои руки не только ключи морей Черного и Средиземного. Он будет иметь ключи для поступательного движения в Малую Азию и для гегемонии на Балканах». Поэтому необходимым является, продолжал Сазонов, усиление российских военно-морских сил в Черном море, которое позволило бы в любую минуту предупредить занятие проливов всякой иной державой[84]. 21 февраля 1914 г. в Петербурге состоялось очередное совещание по вопросу проливов под председательством С. Д. Сазонова. На нем рассматривалась возможность десантной операции; удар предполагалось отложить до 1916 или 1917 г.[85]. Вместе с тем в задачи России входило создание жизнеспособных славянских государств на Балканах, которые стали бы ее союзниками. Рост русофобских настроений в Болгарии, обвинявшей Россию в своих неудачах в войне и в отказе допустить болгарскую армию в Константинополь, привел к тому, что опорой России на Балканах, наряду с неизменно дружественной Черногорией, оставалась Сербия. Именно ее русские политики в 1913–1917 гг. считали потенциальным ядром сильного единого славянского государства в регионе. Как писал начальник первого отдела МИДа А. М. Петряев, программой максимум российского правительства будет создание «великой Сербии» – единого Сербо-Хорватского государства[86]. Месяцы, разделявшие Бухарестский договор и начало Первой мировой войны, МИД посвятил усилиям склонить правительства балканских государств на сторону Антанты. Было очевидно, что новая война неизбежна.
В целом русская политика 1900-1910-х гг. на Ближнем Востоке вообще и на Балканах в частности характеризуется пассивностью и несамостоятельностью. Связанное соглашениями с Австро-Венгрией, занятое русско-японской войной и революцией, в период до 1908 г. русское правительство тщательно избегало вмешательства в конфликты и прикладывало все усилия к сохранению status quo на Балканах. В 1909–1912 гг., продолжая линию на сохранение неприкосновенности Османской империи, которая доминировала после 1878 г., и не пускаясь в рискованные военные авантюры, Россия, тем не менее, «повернулась лицом к Ближнему Востоку»: МИД приступил к созданию блока балканских государств. Действия дипломатии в этом направлении увенчались успехом, и к 1914 г. Россия, как и другие великие державы, оказалась перед новой картой Балканского полуострова. Однако все политические комбинации, предпринимавшиеся русским правительством на Балканах, служили одной цели: подготовке почвы для решения восточного вопроса. Первостепенной для русской политики начала XX в. оставалась проблема проливов и Константинополя. От дипломатических и военных действий в ходе Первой мировой войны зависело окончательное решение восточного вопроса.
58
Последней крупной попыткой накануне мировой войны войти в соглашение с германским лагерем была встреча Николая II с Вильгельмом II в Потсдаме 4 ноября 1910 г. В ходе переговоров обсуждалось сохранение status quo на Балканах, неприкосновенность балканских государств и Оттоманской империи (Бестужев И. В. Борьба в России по вопросам внешней политики. С. 328–336).
59
Там же. С. 336–345.
60
История дипломатии. Т. II. С. 711–714; Восточный вопрос во внешней политике России. С. 338–345.
61
Воjводиħ М. Србиjа у међународним односима краjем XIX и почетком ХХ века. Београд, 1988. С. 57.
62
Бестужев И. В. Борьба в России по вопросам внешней политики. С. 336–354.
63
Милюков П. Балканский кризис и политика А. П. Извольского. СПб., 1910. С. 54–55. Helmereich Е. Chr. The diplomacy of the Balkan wars. 1912–1913. Cambridge, 1938. P. 147–151; Langer W. L. Russia, the Straits Question and the Origins of the Balkan League I I The Political Science Quarterly. September 1928. Vol. XLIII. P. 321–363; Бестужев И. В. Борьба в России по вопросам внешней политики. С. 278–293; Зайончковский А. Подготовка России к мировой войне в международном отношении. М., 1926. С. 214–216; Stavrianos L. S. Balkan Federation: A History of Movement towards Balkan Unity in Modern Times. Northampton, 1941; и др.
64
С[околов] И. И. Христиане в Турции // Церковный вестник. 1911. № 51–52. С. 1608–1615.
65
Малинов А. Странички из нашата нова политическа история. Спомени. София, 1938. С. 83–88,147, 162.
66
Там же. С. 162.
67
Гешов И. Е. Балканский союз. Воспоминания и документы. Пг., 1915. С. 35–36.
68
Текст договора: Международные отношения эпохи империализма. Т. 19. Ч. II. С. 265–268; Жебокрицкий В. А. Болгария накануне Балканских войн 1912–1913 г. Киев, 1961. С. 165; История дипломатии. Т. II. С. 734–740; Восточный вопрос во внешней политике России. С. 345–349; Helmreich Е. Chr. The diplomacy of the Balkan wars. P. 36–68; Маджаров M. Дипломатическа подготовка на нашите войни. Спомени, частни писма, шифровании телеграми и поверителни доклади. София, 1998.
69
Воjводиħ М. Србиjа у међународним односима. С. 57.
70
Жебокрицкий В. А. Болгария накануне Балканских войн. С. 174–180; Хвостов В. М. История дипломатии Т. II. С. 742–743; Helmreich Е. Chr. The diplomacy of the Balkan wars. P. 69–80.
71
Русские политические партии по-разному толковали положение на Балканах. Если крайние правые были сдержанны и считали, что Россия не должна вмешиваться в войну, то националисты, октябристы и кадеты вели панславистскую агитацию и требовали взятия Константинополя и проливов. Поддержку панславистам оказывали министры А. В. Кривошеин, И. Г. Щегловитов и С. И. Тимашов, а из дипломатов посланник в Белграде Н. Г. Гартвиг. Осторожная позиция С. Д. Сазонова, которую разделял премьер-министр В. Н. Коковцов, вызвала в Петербурге славянофильские демонстрации против министра иностранных дел (Шебунин Л. Н. Россия на Ближнем Востоке. Л., 1926. С. 104; Helmreich Е. Chr. The diplomacy of the Balkan wars. P. 153–155; Хвостов В. M. История дипломатии. Т. II. С. 744; Воjводиħ М. Србиjа у међународним односима. С. 59).
72
Писарев Ю. Л. Балканский союз 1912–1913 гг. и Россия // Советское славяноведение. 1985. №. 3. С. 58–69.
73
Там же. «Общий интерес сохранения безопасности Константинополя требует удержания защитной зоны под реальным суверенитетом султана. Зона определяется линией от устья Марицы, включая Адрианополь, к Черному морю», – так формулировал С. Д. Сазонов желательные условия мира на Балканах (телеграмма русским представителям за границей от 20 октября 1912 г.). Цит. по: Шебунин А. Н. Россия на Ближнем Востоке. С. 106–107.
74
Писарев Ю. Л. Балканский союз 1912–1913 гг. и Россия. С. 66.
75
Он же. Россия и международный кризис в период первой балканской войны (октябрь 1912 – май 1913 г.) // История СССР. 1986. № 4. С. 56–67.
76
Он же. Балканы между миром и войной (Лондонские конференции 1912–1913 гг.) // Новая и новейшая история. 1984. № 4. Июль-август. С. 63–75.
77
Воjводиħ М. Србиjа у међународним односима. С. 59–61.
78
Гошев А. Балканските войни. Т. II. София, 1931. С. 483–484; Жебокрицкий В. А. Болгария в период Балканских войн 1912–1913 г. Киев, 1961. С. 117–120; Ход заседаний лондонской конференции подробно изложен в кн.: Helmreich Е. Chr. The Diplomacy of the Balkan Wars. P. 249–340. См. также: Сборник дипломатических документов, касающихся событий на Балканском полуострове (август 1912 – июль 1913). СПб., 1914; Хвостов В. М. История дипломатии. Т. II. С. 750–754.
79
Восточный вопрос во внешней политике России. С. 349–367; История дипломатии. Т. II. С. 754–759.
80
А. П. Извольский – С. Д. Сазонову. 1 (14) августа 1913 г. Цит. по: Жебокрицкий В. А. Болгария в период Балканских войн. С. 226. Балканские войны получили широкий резонанс в России, особенно среди публицистов-славянофилов, причем их результаты оценивались в зависимости от симпатий автора той или другой народности. Одни обвиняли русское правительство в недостаточной решительности, другие понимали невозможность сохранения Балканского союза; одни укоряли правительство в том, что оно не оказало должной поддержки болгарам, другие – что мало поддержало сербские требования. См.: Бауер О. После Балканской войны // Современник. 1913. № 6. С. 214–225; Водовозов В. Балканская война и Россия // Современник. 1913. Кн. 11. С. 264–271 (проболгарская позиция); Якушкин В. Балканские войны и их результаты. М., 1914; Табурно И. П. Вопрос о распределении завоеванной у Турции территории между Болгарией и Сербией. СПб., 1913 (просербская позиция); и др.
81
Россия на Ближнем Востоке // Московские ведомости. 16 (29) января 1914 г. № 12.
82
Водовозов В. Балканская политика и Россия // Современник. 1913. Кн. 11. С. 271.
83
Писарев Ю. Л. Балканский союз 1912–1913 гг. и Россия. С. 67.
84
Шебунин Л. Н. Россия на Ближнем Востоке. С. 108–111.
85
Воjводиħ М. Србиjа у међународним односима. С. 65.
86
Писарев Ю. А. Югославянский вопрос в балканской политике России в 1913–1915 гг. (По неизданным и малоизвестным документам) // Исследования по истории стран юго-восточной Европы в новое и новейшее время. Кишинев, 1983. С. 108–120; см. также: Хвостов В. М. История дипломатии Т. II. С. 772–773; Восточный вопрос во внешней политике России. С. 378–383.