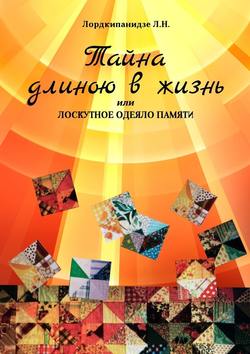Читать книгу Тайна длиною в жизнь, или Лоскутное одеяло памяти - Лордкипанидзе Л. Н. - Страница 3
Моё имя
Глава первая
Оглавление«Что в имени тебе моём?
Оно умрёт, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальний,
Как звук ночной в лесу глухом.…
Но в день печали, в тишине,
Произнеси его тоскуя;
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я…»
А. С. Пушкин
Насколько важно и значимо для человека его имя, не им самим выбранное, как правило? Играет ли оно какую-нибудь роль в самоощущении и самовыражении? И если «да», то какую? Правда ли, что от имени, как уверяют некоторые фаталисты, зависит судьба человека – «Как корабль назовёшь, так он и поплывёт»?
Ответов на эти вопросы множество, большинство из них противоречат друг другу, и у каждого, кто задумывался над этим, есть, вероятно, свой, наиболее для него убедительный. Я не считаю, что имя предопределяет личностные особенности или, тем более, судьбу человека. На мой взгляд, перефразируя известную поговорку, «не имя красит человека, а человек – имя». Хотя… Очевидно и бесспорно одно: имя – первое, с чем идентифицирует себя человек.
Моё имя мне всегда нравилось. С раннего детства я принимала как данность, что я – Людмила Николаевна. Эту историю, которую я, конечно же, знаю только со слов, рассказывала мамина младшая сестра – моя любимая тётя Фаня. Мне было около трёх лет, я ходила в ясли, потому что все взрослые работали. Рассказывают, я была не по возрасту серьёзной и рассудительной, рано и хорошо научилась говорить – домашние называли меня «старый нос».
В яслях работал детский врач, пожилой мужчина, который, учитывая мою «взрослость», называл меня не иначе как по имени и отчеству. Мама узнала об этом случайно при весьма смешных обстоятельствах.
Как-то, рассказывала тётя, мы втроём шли по улице, мужской голос сзади несколько раз окликнул: «Людмила Николаевна!». Я стала оглядываться и требовать, чтобы мы остановились. Легко представить изумление сестёр, когда нас догнал доктор и выяснилось, что обращение и в самом деле было адресовано мне.
***
Так случилось, что и в детском саду, и в школе меня называли не иначе как Людой или Людмилой. Возможное сокращение «Мила» настолько явно не вяжется со мной, что за всю мою жизнь никто ни разу не сделал подобной попытки. «Люсей» тоже никто меня не называл, а меня «Люся» раздражает, и я долго не понимала, почему. Единственное предположение возникло, когда вместе с сыновьями перечитывала Гайдара. Про Тимура и его команду я читала так давно, что, повзрослев, успела позабыть, что тамошнюю козу звали Люськой. Возможно, сработали вытесненные в подсознание детские ассоциации?..
Так случилось, что за 10 лет учёбы я поменяла 6 школ, но ни в одной из них у меня не было прозвищ…
Самое привычное для меня – моё имя-отчество, которым я звалась большую часть жизни, став в 23 года врачом. К 70 годам оказавшись в Германии, я испытывала первое время неловкость, называя при знакомстве только своё имя. Примиряет меня с этой ситуацией, что вместо принятого в России официального обращения «Людмила Николаевна», я слышу не менее приятное для себя «фрау Лордкипанидзе».
***
Моя фамилия не менее любима и значима для меня, чем имя. Во-первых, потому что это фамилия моего любимого папы. Во-вторых, я не лишена тщеславия, а у людей знающих, тем более, у грузин, она сама по себе вызывает интерес и уважение, поскольку принадлежит княжескому роду и имеет достаточное количество известных представителей. Я не стала менять свою грузинскую фамилию на русскую фамилию мужа, потому что не представляю себя с другим именем. Но я не жила в Грузии, и мне часто приходилось видеть и слышать, как мою фамилию искажают и коверкают. Самая малая и частая ошибка, когда при написании пропускают букву «д», которая, на мой взгляд, и придаёт фамилии особую звучность.
Между прочим, в нашей семье существует байка, которая возникла именно в связи с наличием этой буквы. Один из папиных предков был, якобы, очень богат, немало времени проводил в Париже, играл в Монте-Карло. Однажды, прибыв на светский прием, он назвал своё имя мажордому: «Князь Трифон Лордкипанидзе». Представляя нового гостя, тот с особым пафосом провозгласил: «Князь, трижды фон, лорд Кипанидзе!».
Кстати, в институте некоторые студенты и преподаватели, пока не видели мою фамилию написанной, считали, что я – Лора Кипанидзе. Некоторые из них упорно называли меня Лорой, утверждая, что это имя мне больше подходит, чем Людмила…
Как ни смешно, но на нашем курсе из 350 студентов оказался такой же грузин, как и я, – Георгий Капанадзе. Что значит «такой же»? Сейчас объясню. Дело в том, что и моя, и его принадлежность к грузинам ограничивалась фамилией, восточным типом лица и, главное, размерами носа. В остальном же… Мы оба не знали грузинского языка, никогда не жили в Грузии. Мне, правда, повезло больше: его отец погиб во время войны (Гоги лет на 5 старше меня, он поступил в институт, имея за плечами трудовой стаж и три года службы в армии).
Мой папа, хоть и не учил меня языку, но был всегда рядом, каждый его летний отпуск мы проводили в Грузии, к нам приезжали гостить мои грузинские дяди и тёти, моя любимая бабушка Зина, мои двоюродные братья и сестры. А один из них, самый, пожалуй, колоритный – Бичико, часто подолгу жил у нас.
Так вот, Гоги остро переживал явную ущербность своей фамилии. Не раз сетовал: «Ну, зачем тебе такая фамилия? Ты же девчонка, всё равно её потеряешь, когда замуж выйдешь; давай поменяемся! А ещё лучше – выходи за меня, а чтобы никому не было обидно, наша общая фамилия будет Лордкапанадзе».
Согласитесь, не звучит! Гоги напрасно беспокоился, замуж я вышла не за него, но фамилию свою сохранила.
***
Пожалуй, самое забавное, связанное с моей фамилией, случилось, когда я была на втором курсе. К этому времени сложилась компания, одним из членов которой был наш однокурсник-лоботряс Мишка Порфирьев, которого все мы называли не иначе как «Пафнутий» (вечная ему память, он рано ушёл из-за болезненного пристрастия, свойственного многим русским).
Своё прозвище Мишка приобрел по нескольким причинам. Пафнутий был не по возрасту вальяжный, медлительный, что в сочетании с его полновато-рыхлой фигурой резко выделяло его среди единичных в поле зрения тощих, взбудораженных обилием девчонок «вьюношей» нашего курса.
Мишка, пожалуй, единственный на курсе, носил довольно густую бороду и такие же усы; из этих весьма неопрятных зарослей неизменно торчала трубка, которую он, если не курил, то посасывал. На разнообразные шутки по этому поводу Мишаня реагировал одинаково: разжимал толстые губы, обнажал крупные прокуренные жёлтые зубы и снисходительно изрекал: «Поцелуй без усов, что роза без запаха». Скептикам советовал прочитать рассказ «Усы» Мопассана – в те годы непререкаемого для нас авторитета в любовных вопросах. Правда, из тех девчонок, которых я знала, никто не сгорал от желания убедиться в правоте классика с помощью Пафнутиевских кущей.
Одевался Пафнутий соответственно своему прозвищу: тёмный костюм-тройка (всегда такой измятый, будто он спал, не раздеваясь); серебряной змейкой от жилетной пуговицы в карман вползала массивная цепочка старинных часов, доставшихся Мишке по наследству. Нам нравилось спрашивать у Пафнутия, который час, за минуту до точного времени и наблюдать, как он, не спеша, предоставляя нам возможность в полной мере насладиться действом, достаёт часы, нажимает невидимую кнопку, как откидывается крышка с витиеватой монограммой и раздаётся красивый мелодичный бой… Второй карман жилета принадлежал трубке, которой удавалось отдохнуть в нём от Мишкиных зубов только, когда хозяин ел, и во время учебных занятий (где она ночевала, не знаю).
Представили себе этого оригинала? Если бы к нему не прилипло имя, созвучное фамилии, его непременно окрестили бы Ионычем.
Оригинальность Пафнутия не ограничивалась внешностью. Разве можно было сравнить его размеренное благополучно-сытое существование в большой профессорской квартире в центре Ленинграда с той шебутной безалаберной жизнью, которую вели мы, приехавшие издалека, снимавшие углы, (то есть, жившие в одной комнате с хозяйкой), либо занимающие койку в общежитии, – вечно голодные, вечно без денег, но зато вырвавшиеся из-под опеки родителей, свободные и оттого бездумно счастливые провинциалы?
Начать с того, что Мишка был единственным сыном немолодых учёных. Его мама – физик, доктор наук, преподавала в высшем Морском училище им. Макарова. У неё были патенты на научные открытия (я тогда впервые увидела, как они выглядят). Наталья Никифоровна была настолько некрасива, насколько умна и добра. Мишка внешне был очень похож на неё: такой же крупный нос «картошкой», такая же толстая с крупными порами кожа, такие же глаза – небольшие, глубоко посаженные, с тяжёлыми припухшими веками. Только его мама была деловая, быстрая, энергичная, неугомонная, а он – медлительный, неповоротливый и ленивый.
Его папа – известный палеонтолог, один из открывателей «второго Баку», был талантлив не только в науке. Мишка показывал его многочисленные рифмованные записки жене и сыну, которые, независимо от повода, были наполнены искренней любовью, добротой и тонким юмором. Их невозможно было читать без того, чтобы не перехватило горло от сопричастности к этим чувствам, и горечи от осознания, что уже нет на свете такого замечательного человека. Зная о Мишкином отце совсем немного, я искренне сожалела о том, что не была с ним знакома (он умер до того, как Мишка стал студентом).
В их доме было очень много книг, много красивых старинных вещей, ювелирных украшений, много ненужного (на мой взгляд) хлама и много пыли.
***
У Мишки не было недостатка в деньгах. Он единственный из нашей компании мог пригласить нас в день своего рождения в ресторан. В тот вечер гостей у именинника было четверо: мы с Хели (моя подруга-однокурсница из Таллина) и ещё двое ребят с нашего курса. Пошли в гостиницу «Балтийская» на Невском проспекте. Ресторан размещался на втором этаже, куда вела мраморная лестница с широкими дубовыми перилами.
Мы с Хелечкой пили шампанское, мальчишки – водку.
Пафнутий очень быстро опьянел и к десерту стал совсем хорош: с пьяным упорством неточными движениями вынимал цветы из вазочки и пытался украсить ими пирожные. Было неловко… Дальше – больше: Мишка развалился в кресле и, жестом разгулявшегося купца подозвав официанта, потребовал мясо-пептонный бульон (питательная среда, используемая для роста микробов в лабораторных условиях). Официант растерянно переспрашивал, мы смущённо извиняясь, с трудом уговорили Пафнутия закончить трапезу и облегчённо вздохнули, благополучно покинув зал ресторана.
Но, как оказалось, рано мы расслабились. Очутившись перед лестницей, Мишка неожиданно уселся толстой попой на широкие перила и съехал прямо в объятия к швейцару, у которого усищи встали дыбом от такой наглости. Мы, оставаясь наверху, замерли, а Мишка, как ни в чём не бывало, достал из кармана купюру (судя по реакции швейцара – не маленькую), и тот стал заискивающе расшаркиваться перед ним…
Но и на этом Мишкины фокусы в тот вечер не закончились. Он решил ехать домой только на такси и непременно всем вместе. Остановил машину. Таксист, не соглашавшийся сажать пятерых, вмиг забыл о правилах перевозки пассажиров, на которые ссылался, когда очередная купюра переместилась из Мишкиного кармана на соседнее с водительским кресло…
Приехали (какие мы были тогда изящные, я не про Мишку, он сидел впереди). Мишка, которого по пути окончательно развезло, не желал расставаться с нами и требовал продолжения банкета. С горем пополам мальчишки запихнули его в лифт (мы с Хели ждали внизу), высадили, приставили к входной двери в квартиру, позвонили и сбежали на один пролёт вниз. Наталья Никифоровна, бедная, открыла, приняла «посылку» (мы слышали, как Мишка пытался с ней объясниться)…
Удовольствие от ужина в дорогом ресторане было подпорчено, но зато частым поводом для веселья осталось воспоминание о съезжающем по перилам Пафнутии и изумлённом лице швейцара…
***
Весьма оригинально шутил Пафнутий и на трезвую голову. Приближалась сессия… Мишкины познания в микробиологии ограничивались мясо-пептонным бульоном, который он требовал в ресторане. Его мама слёзно просила меня подготовить её «великовозрастного обалдуя» к экзамену. Я не могла отказать женщине, которая была гораздо старше моей мамы да к тому же – доктор наук, преподаватель высшей школы. Целую неделю перед экзаменом я каждое утро приезжала к Пафнутию. Только повышенное чувство ответственности заставляло меня талдычить известные мне, но малоинтересные особенности и условия жизни и смерти разнообразных палочек, кокков и спирохет. Мишка искал любой повод, чтобы отвлечь меня: то он предлагал примерить фамильные драгоценности, то «подбрасывал» мне записки своего отца, которые были, конечно же, занятнее, чем различия между грамм-положительными и грамм-отрицательными микротварями.
Однажды, ближе к обеду, Пафнутий открыл крышку своих знаменитых часов, уточнил время и озабоченно сообщил, что ему срочно нужно позвонить по весьма важному делу. Я, естественно, направилась в другую комнату (в те годы телефоны устанавливались намертво, их не носили за собой). Пафнутий остановил меня и очень серьёзно: «Нет, нет, останься, тебе будет интересно». Набрал номер, уточнил: «Это духовная семинария?» (мне действительно стало интересно) и завёл долгий нудный разговор о том, что он, студент медицинского института, хочет поступить в семинарию, потому что всегда мечтал стать священником, но не смел ослушаться родителей; но вот теперь, когда он стал старше и убедился, что медицина его совершенно не привлекает, он готов пойти против их воли и т. д. и т.п… Он говорил так серьёзно, а отсутствие у него интереса к учёбе было так очевидно, что я всё приняла за чистую монету и даже успела пожалеть о времени, которое трачу напрасно, натаскивая его к экзамену.
Мишка, между тем, подробно выяснял, зачтут ли ему некоторые предметы, сколько лет нужно учиться, что-то о каникулах, о стипендии, о распределении… Ему подробно отвечали, он снова расспрашивал, что-то уточнял и проговорил не меньше двадцати минут. Когда его собеседник, по-видимому, понял, что разговор намеренно затягивается, он предложил Мишке обсудить детали при встрече. Пафнутий, состроив для меня физиономию жизнерадостного дебила, дурашливо выдал: «А это ничего, что я еврей?».
Представляю, каково было православному священнику на другом конце провода, если даже мне не сразу стало смешно?..
***
Но вернёмся к моей фамилии. Рассказ о Мишке Порфирьеве я затеяла потому, что он единственный, кто называл меня не Людмилой, и даже не Лорой, он называл меня «Дзета, Дзеточка». Согласитесь, достаточно симпатично и совсем не обидно, тем более, что это прозвище не прижилось, и кроме него никто другой так ко мне не обращался. Но вот в этом, как оказалось, я заблуждалась. А выяснилось всё при очень забавных обстоятельствах.
Была весна. Приближалась православная пасха. У Порфирьевых была дача в посёлке Дубки, недалеко от Ломоносова. Мишкин дедушка (а, может, прадедушка) был священником, причём, какого-то высокого чина. У них дома было несколько икон в серебряных окладах (не в красном углу, естественно), крест очень красивый, не нательный, а большой, тяжёлый, какой носят церковные иерархи, с натуральными камнями, с эмалью… Возможно, именно поэтому в их доме праздновали пасху и в годы процветания воинствующего атеизма. Короче, Мишка передал нам с Хели приглашение своей мамы, с которой мы тогда ещё не были знакомы, провести выходные дни на даче. С удовольствием, хоть и не без некоторого смущения, мы отправились в гости. Встретились на вокзале, познакомились, в электричке поболтали о том, о сём. Приехали. Всё было замечательно: после хмурого каменного Ленинграда было так радостно увидеть голубое небо, вдохнуть свежий душистый воздух, ступить на живую землю…
Наталья Никифоровна пошла в дом, а нам приказала «насыщаться кислородом». Минут через десять из дома вдруг понеслись возмущённые крики: «Негодяи! Сволочи! Я тебя убью, Мишка!». Мишка невозмутимо пыхтел своей трубкой и подавал нам свободной рукой успокаивающие сигналы. Мы почувствовали себя неловко, не понимая, что происходит. Наталья Никифоровна выскочила из дома и, воинственно подняв над головой большущую сковородку, пошла на Мишку. Он, неуклюже, – от неё. В погоне за «негодяем» Наталья Никифоровна предъявляла претензии, прояснившие причину её внезапного гнева: «Ах ты, поганец! Сколько раз я просила тебя не давать ключи кому попало?! Мало того, что перепачкали постельное бельё и даже не потрудились снять его, так ещё и всю картошку, которую я на яровизацию разложила, сожрали!».
Мишка, по-девчоночьи разбрасывая ноги (бегом это нельзя назвать), отступал и, постоянно оглядываясь, увещевал мать: «Мамочка, не сожрали, а съели, ты же интеллигентная женщина!». Наталья Никифоровна, по-моему, просто делая вид, что не может его догнать, настаивала: «Нет, сожрали! сожрали! Я так старалась, всю зиму её берегла, а они, негодяи, сожрали! сожрали!».
Зрелище было настолько уморительное, что мы с Хелькой не смогли сдержаться и расхохотались. Наталья Никифоровна остановилась, взглянула на нас с недоумением, но уже через мгновение хохотала вместе с нами. Мишку долго уговаривать не пришлось. Пыхтя и отдуваясь после непредвиденной разминки, обнимая хохочущую мать одной рукой и предусмотрительно отбирая у неё сковородку – другой, он смущённо повторял: «Извините, девочки, мою маму. Это она так, вспылила немного. А вообще-то она очень хорошо воспитанная интеллигентная женщина».
От его слов, а еще больше от того, как он это говорил, мы втроём просто покатывались со смеху, еле успокоились.
***
Позднее, пока Мишка и Хелечка обозревали окрестности, я помогала Наталье Никифоровне. Мы накрыли стол на уютной застеклённой веранде, где стояла ротанговая мебель: большой стол, диван и очень уютные кресла (такую мебель я до того видела только в кино). Было очень весело, мы «чокались» крашеными яйцами, ели вкусный творог с изюмом и ванилью, Наталья Никифоровна рассказывала смешные истории из жизни курсантов, анекдоты и, обращаясь ко мне, называла так же, как Мишка, – «Дзеточка»… И тут выступил Пафнутий: «Мама, Людмила ведь может обидеться. То, что я её так называю, вовсе не означает, что и тебе это позволено. Для меня она – Дзеточка, а для тебя – Людмила».
Нет, я вряд ли смогу, не используя мимику и жесты, передать то, что случилось с Натальей Никифоровной. Она каким-то чудом выпучила свои маленькие глазки, всплеснула руками, охнула, откинулась в кресле, на разные лады повторяя: «Как же это? Как?»; потом стала истерически хохотать, буквально задыхаясь не то от смеха, не то от икоты, так что мы даже перепугались. Наконец, отдышавшись, она запричитала, обращаясь ко мне: «Господи, извините, пожалуйста, я ведь была уверена, что Вас так зовут. Ведь ты же, Мишка, всегда говорил: Дзета такая, Дзета сякая. И фотографии показывал – это Дзеточка. У меня на кафедре все сотрудники уже знают, что у моего сына есть однокурсница с красивым греческим именем – Дзета. Вот уж поиздеваются они надо мной!»…
Она так огорчилась, услышав моё обычное русское имя, что её интерес ко мне явно уменьшился. Раздосадованная, она спросила: «Но почему же тогда „Дзета“, какая связь с Людмилой?». Я вновь «выросла» в её глазах, когда выяснилось, что «Дзету» Мишка произвёл из окончания моей фамилии.
***
Вне связи со своей фамилией, но в связи с горькой потерей, вспомнила, что у меня было ещё одно «индивидуальное» имя-прозвище – «кукла». Теперь я никогда уже не услышу: «Ты – кукла, а кукол я не люблю!». Так говорил Женька Шварц, глядя на меня влюблёнными глазами. Ему было всего 63, он был, казалось, здоров и полон сил, мы с мужем ждали его в гости 12 июня, а 1-го июня он умер. Смерть нелепая, неожиданная – возвращался с женой с дачи. Яна, как всегда, за рулём. Ему стало плохо, при въезде в город Яна вызвала скорую, пыталась самостоятельно оказать необходимую помощь (она – врач-кардиолог) – безуспешно…
Познакомились мы с Женькой Шварцем во время вступительных экзаменов. Хотя поступающих были тысячи, его я запомнила сразу. Во-первых, мы оказались в одной экзаменационной группе абитуриентов. Во-вторых, он был еврей, которых я выделяла с тем же удовольствием, что и грузин. В третьих, он был взрослый (на 3 года старше меня), очень серьёзный и, безусловно, умный. А я в пору своей бескомпромиссной юности почитала интеллект ведущим качеством и признавала только умных (понадобилось много лет, чтобы я научилась понимать, принимать и ценить людей не только за высокий интеллект и глубокие знания). Женька не был красавцем: среднего роста, с пышной вьющейся шевелюрой (уже к третьему курсу она навсегда покинула его умную голову), с большими очками на горбатом носу. Но мне понравилось, что он не суетился, не толкался, как многие другие абитуриенты, озабоченно выясняя, придирчивы ли преподаватели, какие задают дополнительные вопросы, сколько двоек было у предыдущей группы и прочая и прочая…
Последним штрихом, который сделал Женьку незабываемым, стал вступительный экзамен по английскому языку. Когда я услышала, как он читает текст, мне стало и смешно и грустно. Смешно, потому что такое жуткое произношение трудно представить. Грустно, потому что я была уверена, что его английский нельзя оценить положительно, и, значит, он не станет моим однокурсником. К счастью, экзаменаторы были не столь категоричны, и Шварц стал студентом. Трёхлетний рабочий стаж, пятёрки по химии и физике, а также преимущество по половому признаку перевесили не только чудовищное английское произношение, но и пятую графу в «серпастом молоткастом» (одна из известных шуток в советские времена – «меняю пятую графу на две судимости»)…
***
Первого сентября нас поздравили с почётным званием студента ЛГПМИ и приказали второго утром явиться с вещами в рабочей одежде. Первый месяц студенческой жизни мы должны были не учиться, а трудиться, демонстрируя безоговорочную готовность служить родному отечеству и советскому народу по первому зову и на любой ниве.
Мы оказались в одном совхозе. Признаться, у меня сохранились весьма смутные и обрывочные воспоминания об этом времени. Впервые в жизни я попала в столь суровые условия; меня очень угнетало отсутствие элементарных бытовых удобств, постоянное ощущение усталости и, главное, – грязи. Основной моей задачей было – пережить этот ужас и при этом не выглядеть избалованной и неприспособленной к трудностям. Это требовало стольких усилий, что ни на что другое меня не хватало. Женька Шварц – один из немногих, кого я запомнила по колхозу. Он очень неумело пытался ухаживать за мной, помогал, старался быть рядом. Я узнала, что он приехал из Белоруссии. Свой город он называл не иначе как «Рио-де-Бобруйск – интеллектуальная столица мира». Его отец был военным лётчиком и погиб осенью 41 года, когда ему было всего полгода. Мама вышла после войны замуж, но отчим (русский) его не усыновил, и Женька был единственный Шварц в семье Гудковых, где подрастала его сестрёнка.
Как-то, возвращаясь с поля в свой барак, мы с сожалением вспоминали некоторых из «отсеявшихся» ребят, с которыми успели познакомиться во время вступительных экзаменов. Я призналась, что и его, Женьку, не рассчитывала увидеть в списках зачисленных, когда услышала его «аглицкое» произношение. Шварц, очень самолюбивый и тщеславный, при этом неуверенный в себе и потому очень ранимый, с трудом пытаясь скрыть обиду, стал уверять меня, что достаточно хорошо знает язык. В доказательство он поднял глаза и руку к небу и гордо произнёс: «Ску блай» (для тех, кто не знает английский: sky blue – скай блу – голубое небо; невольно приходит на ум шутка о трудностях чтения на английском: «написано «Манчестер», читай – «Ливерпуль»). До сих пор помню растерянное и обиженное Женькино лицо, когда я рассмеялась.
Все сорок с лишним лет, при каждой нашей встрече мы вспоминали это торжественно-гордое – «ску блай». Но Женька уже не обижался, скорее – наоборот. Теперь всё, о чём мы вспоминали, было приятно, потому что это были воспоминания о молодости.
***
После колхозных подвигов мы обнаружили себя в новых списках учебных групп и оказались со Шварцем на разных потоках. Это значит, что официально мы встречались только на общекурсовых лекциях, которые бывали не так часто, и некоторые из которых я прогуливала. Мне не хотелось тратить время на физику, например, которую я не любила и не понимала. К тому же наш физик, профессор Ш. через каждые два-три слова блеял, как старый козел «э-э-э». Его никто не слушал, все занимались своими делами – читали, переписывали конспекты, играли в карты, в балду, в морской бой… Я предпочитала вообще его не слышать. Должна признаться, что первые два институтских курса не вызвали у меня интереса.
Общеобразовательные дисциплины – физика, химия, биология – были, в основном, повторением и некоторым углублением школьного курса и не увлекали меня. Философские науки (вернее, стиль их преподавания) отвратили меня после подготовки первого обязательного реферата. Из множества предложенных тем я выбрала ту, которую коротко можно обозначить как «Павлов и Фрейд» (я не помню, что конкретно нужно было сравнивать в их учениях). Так как предложенной литературы, в которой от Фрейда оставались лишь подобранные для аргументации в пользу Павлова цитаты, было явно недостаточно, решила почитать самого Фрейда. Каково же было моё разочарование (недоумение, негодование, протест), когда в моей любимой публичке (публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина на Фонтанке) мне отказали, объяснив, что Фрейда дают только научным работникам, имеющим специальный запрос из института, подтверждающий, что Фрейд им необходим для научных целей; к тому же, не в этой библиотеке, а в другой, для научных работников, на Невском, куда нужен специальный пропуск…
Лекции по истории я тоже перестала посещать после первого семестра. На экзамене мне достался вопрос из истории Великой Отечественной войны. Надо напомнить, что это были годы «хрущёвской оттепели», когда все наперегонки, как можно яростнее и громче, старались продемонстрировать отказ от почитания Сталина, когда снимали его портреты и памятники, изменяли слова Гимна и других песен, когда Сталинград переименовали в Волгоград. Мне, как на грех, достался вопрос «Оборона Волгограда». Я же, отвечая, упорно повторяла «оборона Сталинграда», «Сталинградская битва». Преподаватель поправлял меня, полагая, что я оговариваюсь. Но я стала сопротивляться, заявив, что говорить «оборона Волгограда» всё равно, что сказать, будто Клодт и Росси творили в Ленинграде…
Кстати, вдруг вспомнила, как на экзамене по истории КПСС одна из наших однокурсниц, отвечая на вопрос о культе личности Сталина, произнесла, сузив глаза, с чувством омерзения, буквально просвистев: «Ещё Ленин называл Сталина генс-с-с-еком!». Экзаменатор с ассистентом так старались не расхохотаться, что даже не поинтересовались, что она подразумевает под этим «ужасным ругательством» – «генеральный секретарь»?
Самым ужасным предметом стала анатомия, которую без зубрёжки выучить невозможно, а зубрёжка настолько невозможна для меня, что возникала даже мысль о том, чтобы уйти из института, в который я так стремилась. Дело в том, что школьная программа не требовала практически усилий и большого времени; я привыкла заниматься только тем, что было мне интересно (впрочем, как и всегда потом, всю жизнь).
***
Но вернёмся к Женьке, а то я, как всегда, отвлеклась. Так вот, с Женькой мы виделись редко ещё и потому, что он жил в общежитии, а мне, как «материально обеспеченной», пришлось практически всю стипендию отдавать за право спать на одном диване с Адочкой (по сей день моей самой близкой подругой) в одной комнате с хозяйкой, в коммунальной квартире, населённой, кроме многочисленных двуногих, неисчислимым сонмом клопов.
Женька, хоть и робко, проявлял желание видеть меня не только во время лекций. Меня это мало заботило, я тогда была влюблена по уши, и для меня не существовали ни Шварц, ни другие молодые люди кроме одного единственного – Чапа. О Чапе – в другой раз, а пока – о Шварце. Как-то в субботу Женька пришёл на стадион встретить меня после занятий по физкультуре (ещё один нелюбимый предмет, который заставлял меня ощущать свою неуклюжесть, в школе я была от него освобождена по причине плоскостопия). У Шварца были билеты в кино. Фильм был новый, с известными актёрами, я согласилась с условием, что предварительно мы заедем ко мне (на стадионе не только душа не было, но даже умыться было негде).
Жила я в центре, на Лиговском проспекте, совсем рядом с Невским, на пятом этаже старого питерского дома-колодца. Женька подниматься не стал, да я и не настаивала. Он остался на улице у стенда с газетами. Вошла в комнату, а на столе цветы и шоколад – прилетел Чап. Он тогда учился в академии Жуковского в Москве и любил устраивать подобные сюрпризы. Хозяйка сказала, что у него не хватило терпения ждать, и он пошёл меня встречать. Я стала лихорадочно хвататься за полотенце, платье, задавала Анне Николаевне вопросы, не слыша ответов… «Вот, вот, оба сумасшедшие! Говорила ему, подожди здесь, не знаешь ведь, с какой стороны придёт, где встречать; нет, побежал, как ошпаренный! Ну, и где ты теперь будешь его искать?».
Выскочила на улицу, увидела Женьку, о котором совсем забыла, и, переполненная счастьем предстоящей встречи, лишь на мгновение осознав, как некрасиво поступаю по отношению к нему, на ходу извиняясь, что пойти с ним сейчас не могу – обстоятельства, убежала… Шварц, бедный, даже не нашёлся, что сказать. А при следующей нашей встрече в институте, когда я попыталась ещё раз извиниться, что-то бормоча в своё оправдание, он, безуспешно стараясь выглядеть безразличным, заявил: «Ты – кукла, а кукол я не люблю!».
Честное слово, я не обиделась, скорее, обрадовалась. Никогда мне не доставляло удовольствия видеть, что я нравлюсь тому, кто мне безразличен; наоборот, – это всегда смущало и тяготило меня. Потому я была искренне рада, что Женька, как мне казалось, сам справился с тяжёлой для меня задачей. После того случая Шварц прекратил всякие попытки ухаживать за мной, хотя и не скрывал своей симпатии, и стал называть меня «куклой»… Это прозвище тоже не прижилось, потому что никто другой не разделял индивидуальное видение Шварца, его персональное мнение обо мне.
***
И вот Женьки не стало… Теперь никто и никогда не назовёт меня куклой. И никто не будет так открыто говорить о своей любви. А он говорил. Все годы после института, когда у нас обоих уже были дети, когда мы встречались в Питере или у нас в Новгороде семьями, он всякий раз вспоминал, как я его обидела; говорил, что всё равно меня любит, что я просто дура набитая, потому что не смогла предугадать, что он станет доктором наук, профессором, академиком, известным генетиком и прочая и прочая…
На моём шестидесятилетии Шварц, знакомясь с моей мамой, галантно поклонившись и поцеловав ей руку, представился так: «Евгений Шварц. Это я должен был стать Вашим зятем, если бы Ваша дочка была поумнее, а я не был бы таким обидчивым. Вот Соловьёв не обижался, а я, дурак, обиделся!»… Моя мамуля так растерялась, что даже не нашлась, что ответить. И потом, вспоминая, причитала: «Как он мог такое сказать?! Да ещё при Володе! Ничего себе шуточки! Какой он профессор?! Мальчишка!»…
На первых порах Яна, Женькина жена, обижалась, и я её прекрасно понимаю. Помню, как наши друзья-питерцы приехали в Новгород отметить десятилетний юбилей нашей свадьбы. Субботний вечер мы провели в банкетном зале лучшего в те годы ресторана, потом почти до утра дома «пили чай». На следующий день, в воскресенье, я проснулась от запахов кухни. Шварц, оказалось, встал ни свет, ни заря, начистил и натёр картошку и теперь, перевязав моим фартуком своё отчётливо наметившееся брюшко, стоял у плиты и жарил фирменное блюдо – белорусские драники. За завтраком, принимая похвалы уплетающих за обе щеки бездельников, он, не умолкая, издевался надо мной: «Вот-вот, благодарите меня! Эта кукла дрыхла бы до полудня! Вы бы у неё позавтракали! В лучшем случае – давились бы бутербродами…».
Это была неправда; времена, когда я могла спать до полудня, давно миновали, и наготовила я всего вдоволь. Но некоторые основания для подобного заявления у Шварца всё-таки были.
***
Мои однокурсники часто и с непреходящим недоумением любили вспоминать, как я однажды проспала в день экзамена. Соседки по комнате в общежитии, как они потом рассказывали, будили меня несколько раз, я отвечала, что через пару минут встану. Они ушли, а я действительно проспала до полудня. Подскочила, бегом на кафедру, а вся группа уже отстрелялась, ждут за дверью, преподаватель оформляет ведомость… Согласно правилам, студент, не явившийся на экзамен без уважительной причины, автоматически получает «неуд» и, соответственно, остаётся без стипендии… С покаянным видом вхожу в аудиторию, прошу разрешить мне взять билет. Не столько недовольный, сколько удивлённый (я хорошо училась) преподаватель спрашивает о причине опоздания. Я честно отвечаю. Не веря, что подобное возможно, он предупреждает: «Я приму у Вас экзамен, если Вы скажете правду». Я растерялась. Выручили одногруппники, они стояли у приоткрытой двери в ожидании развязки. Мой дружок Коля Скороходов, прихватив за руку старосту, вошёл в аудиторию, и они наперебой стали уверять, что я говорю истинную правду, что я никогда не нервничаю перед экзаменами, что я очень крепко сплю, что случившееся их совершенно не удивляет… Преподаватель оказался понимающим, получила «отлично».
***
Снова отвлеклась… Да, вспоминала Женькины драники… тогда все были довольны, одна Яна дулась, упрекая Женьку в том, что дома он на кухню заходит только поесть… После завтрака я мыла посуду, Женька её вытирал и вспоминал какие-то наши встречи, о которых я совсем забыла (Яна тоже была в кухне). Не обращаясь ко мне по имени, Шварц просто говорил, «а помнишь?». Яна, внимательно слушавшая его, переспросила: «Женя, я что-то не помню, о чём это ты? По-моему, мы с тобой там никогда не были». Шварц, бестолочь, не оборачиваясь, бросил: «При чём тут ты? Я с куклой разговариваю». Я обиделась за Янку, было неловко за Женьку.
Немудрено, что Яна относилась ко мне долгое время более, чем настороженно. Но шли годы, все мы становились старше, мудрее. Когда в день похорон мы плакали, обнявшись, Яна сказала: «Женька так тебя любил!». Она уже давно поняла, что к такой любви не имеет смысла ревновать.
***
Любовь настолько загадочное, многообразное и индивидуальное чувство, что вряд ли его тайна будет полностью раскрыта. Соглашаясь с утверждением Толстого «Если сколько голов, столько и умов, то сколько сердец, столько и родов любви», осмелюсь заметить, что одно и то же сердце по-разному любит разных людей. Я тоже любила Женьку. Не так, как ему хотелось когда-то, но любила. Мне кажется, я понимала его лучше, чем другие, и он это чувствовал.
Как многие талантливые люди, Шварц был очень противоречивый, неоднозначный, разный. С одной стороны, видимой всем, – высоко интеллектуальный, обладавший феноменальной памятью учёный, остро реагирующий на требования времени, угадывающий новые направления в науке; с другой, менее очевидной, – страдающий от неуверенности в себе, нуждающийся в постоянной поддержке, в признании собственной значимости; тщеславный, самолюбивый и совершенно беспомощный в обыденной жизни.
Часто мне бывало жаль его. Обладая недюжинным интеллектом, он не успел стать по-настоящему взрослым, психологически зрелым. Он не сумел дорасти до осознания того, что удовольствие, удовлетворение от процесса деятельности и достигнутых результатов гораздо важнее признания, славы, которой он так страстно жаждал… Ему было мало, как он признался во время последней нашей встречи, быть «широко известным в узких кругах генетиков», чем я пыталась его утешить; он всерьёз мечтал о всемирной известности, о славе, равной славе Эйнштейна…
А ещё горько, что в нашей стране не ценят таких людей. Мало того, что не создаются условия для их работы, так ещё куча бюрократов от науки и завистников чинят им всяческие препятствия. Сколько таких преград пришлось преодолеть Шварцу!.. Перед государственными экзаменами неожиданно для всех, уже после предварительного распределения, нашему выпуску выделили место во вновь создаваемой в Ленинграде лаборатории медицинской генетики. Шварц был несказанно рад этому: отдельно, как науку, медицинскую генетику нам тогда не преподавали, но он, понимая перспективы, начал изучать её самостоятельно, посещая факультативные занятия в университете, общаясь с будущими биологами. Учитывая это, у Шварца было явное преимущество перед однокурсниками.
Но были два обстоятельства, которые могли ему помешать: пресловутая пятая графа и отсутствие ленинградской прописки, на которую в Ленинграде был лимит. Помогло отсутствие претендентов на это место… Обидно и смешно! Малообразованных парней и девчонок, которые приезжали из провинции строить метро, прописывали, давали общежитие, ставили в очередь на получение жилья… А Женьке – умнице, который мог бы сделать для науки, для страны гораздо больше, если бы ему хотя бы не мешали, ему даже это было «не положено»! Шварц долго жил в Ленинграде на птичьих правах, ютился, где придётся, долго работал без зарплаты… Помогли замечательные люди, родители нашей ленинградской подруги. Они прописали Женьку в своей квартире. Это позволило ему «легализоваться».
Жалко Женьку! Жалко всех, живущих в такой прекрасной богатой стране и в таком прогнившем насквозь лицемерном криминальном государстве. А ещё страшнее то, что подавляющее большинство не только мирится, но и приветствует сложившееся положение…
***
Но не будем о грустном… Вот, вспомнила ещё одну ситуацию, связанную с моей фамилией: моему внуку Володе ещё не исполнилось тогда двух лет (1 год и 10 месяцев), но он уже очень чисто и много говорил, был очень спокойный, рассудительный и серьёзный (весь в меня и в своего папу – моего младшего сына Николая). Мы все были тогда на даче. Лена, невестка, очень трепетно относилась ко всему, что касалось питания и воспитания сына; уехав на пару дней с Николаем, оставила мне лист А4, исписанный с обеих сторон мелким почерком с подробными указаниями. Но, даже если бы я решилась отступить от них, внук бы мне этого не позволил. Например, собрались с ним после завтрака на прогулку; погуляли, вернулись, переобуваемся: снимаю с него сандалики и собираюсь надеть домашнюю обувь. Он сопротивляется: «Нужно и носочки переодеть, эти – гуляльные!»…
Сидим в саду втроём – мы с моей мамой и Вовчик. Вовчик в полюбившемся ему гамаке. Мама, которой нравилось, что её правнук такой смышлёный («наша порода!»), стала задавать ему вопросы, кого из членов семьи как зовут, кто где живёт… Всё рассказал: что бабушку зовут Людмила Николаевна, что она врач, как и дедушка, только дедушка – главный врач… После ответа на вопрос о его фамилии «Соловьёв, как у папы, и как у дедушки», моя мама вдруг спрашивает: «А ты знаешь фамилию бабушки?». Я даже рассердилась, зачем такому крохе давать непосильные задания? Каково же было наше изумление, когда Вовчик без запинки произнёс: «Знаю, – Лолдкипанидзе»!
Я тогда вспомнила, как его папа, Николаша, когда ему было лет 5—6, рассердил мужа. Помню, это случилось за ужином. Мы вчетвером сидели за столом и о чём-то беседовали. Не могу вспомнить, в связи с чем (так это было неожиданно), Коля вдруг заявляет: «А можно, когда я вырасту, я буду не Соловьёв, а Лордкипанидзе?». Муж молча устремил на меня гневный возмущённый взгляд, а я объяснила сыну, что фамилию могут менять только взрослые; вот когда вырастет, тогда и решит.
Конечно же, когда мы остались вдвоём, разгневанный муж впервые попытался настоять на том, чтобы я изменила свою фамилию. Мне удалось его успокоить, убедив, что Николай, повзрослев, не станет ни говорить об этом, ни, тем более, делать. А повод у мужа был и раньше, когда моя будущая свекровь, не стесняясь моим присутствием, объясняла сыну, что моё нежелание менять фамилию после брака говорит о моей недостаточной любви к мужу. Тогда Соловьёв не поддержал свою маму. Думаю, потому, что был настолько рад моему согласию стать его женой, что не смел ставить никаких условий.
Признаюсь, я была бы счастлива, если бы Вовчик носил мою фамилию и сохранил её. Тем более, он учится в Англии, может, и жить будет в стране лордов…
Но решать, увы, не мне…