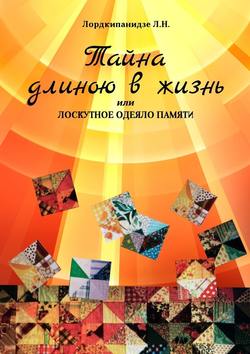Читать книгу Тайна длиною в жизнь, или Лоскутное одеяло памяти - Лордкипанидзе Л. Н. - Страница 7
То, чем я теперь живу
Глава третья
Оглавление«Все мы родом из детства».
Антуан де Сент-Экзюпери
Не устаю восхищаться талантом. Великий Толстой не был психологом, но как точно определил он значение первых лет жизни: «От пятилетнего ребёнка до меня только шаг. А от новорожденного до пятилетнего – страшное расстояние. Разве не тогда я приобретал всё то, чем я теперь живу, и приобретал так много, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобрёл и сотой доли того».
Что приобрела я? Что помню о своём раннем детстве, определившем во многом «то, чем я теперь живу»?
Разные люди называют разный возраст своих первых воспоминаний. Лев Толстой утверждал, что помнит, как ему мешали стягивающие тело пеленки; кто-то уверяет, что помнит свои ощущения при появлении на свет.
Моя память не воспроизводит столь ранние впечатления… Порой всплывают какие-то смутные, обрывочные картинки, в которых перемешаны рассказы родителей, родственников и собственные ощущения. Но то, что происходило после трёх лет, я помню очень хорошо.
***
Самое первое и яркое ощущение относится к возрасту, когда мне было чуть больше трёх. Как и все дети, я была великим манипулятором. Мы тогда жили на Сахалине, в южной его части, которая ещё недавно принадлежала японцам. Время было не спокойное в первые годы после войны, да и природа испытывала на прочность: мы пережили там и пожар, и наводнение. Родители повсюду таскали с собой меня и мамин ридикюль с документами. Часто, когда поздно вечером возвращались из гостей или с концерта, я, прекрасно понимая, что уже большая и должна идти своими ногами, делала кислую мину и произносила одну и ту же фразу: «Что-то у меня животик разболелся»… Я знала, что родители мне не верят, и знала точно, что папа понимает, чего я хочу. Папа подыгрывал мне, тут же брал на руки, целовал, что-то ласково приговаривал, а мама шла рядом, ворчала, что я бессовестная лгунья, и выговаривала папе: «Ты ещё пожалеешь, что позволяешь ей вить из тебя верёвки!»…
Но я уверена, папа никогда об этом не жалел.
***
Тогда же, путешествуя на папиных руках, я совершила своё первое «открытие», связанное с ночными прогулками – я обнаружила удивительную вещь: где бы мы ни шли, куда бы ни сворачивали, за мной повсюду следовала луна. Это было так приятно – возвращаться домой поздно вечером, мерно покачиваясь в папиных руках, обнимая его шею, вдыхая самый родной и приятный запах, и так лестно было видеть, как луна неотступно плывёт за мной по небу. Да, да, не за нами, а именно за мной, я была уверена в этом. Каждый раз, когда мы вечером оказывались в пути, я с некоторой тревогой разыскивала луну и с удовольствием убеждалась в том, что луна по-прежнему мне верна. Я испытывала жгучую радость, которой ни с кем не могла поделиться, потому что была убеждена, что, если я нарушу нашу с луной тайну, луна обидится и выберет себе кого-то другого… Несколько лет я пребывала в тщеславной уверенности особы, «избранной луной»… Я была убеждена, что луна сопровождает именно меня, и что если кому-нибудь расскажу об этом, луна обидится и перестанет ходить за мной.
Это была моя первая тайна, которую я не доверила даже папе. Кстати, позднее мне довелось сделать немало подобных «открытий», да и тайн пришлось хранить немало, и не только своих…
***
Помню свои ощущения, когда мы приходили домой. Мама строго требовала: «Нечего притворяться, раздевайся, умывайся и иди в свою кровать!». Но папа убеждал её, что я уснула, что не надо меня тормошить… Я испытывала такое удовольствие в эти минуты… Блаженство полудрёмы, сладкой неги, когда папа раздевал меня, сонную, целовал, ласково что-то шептал по-грузински, укладывал в постель…
Помню радостное пробуждение, когда всем существом ощущаешь жизнь – приятное тепло постели, приглушённые голоса взрослых, вкусные запахи, солнечный свет даже сквозь опущенные ещё веки…
Я – счастливица, мне от рождения дарована безусловная радость бытия.
***
С раннего детства знала, что красивая, потому что слышала об этом не только от родных, но и от незнакомых людей. С наивной детской верой связана анекдотичная история, которую я знаю со слов моей любимой тёти. После окончания войны все члены маминой семьи переехали из Узбекистана, куда они были эвакуированы, где я родилась, на Украину, в Бердичев. Я ходила в ясли, там работал пожилой детский врач, который, как рассказывала мамина сестра, питал ко мне самые нежные чувства. Оценив мою раннюю «взрослость», он не только называл меня не иначе как по имени и отчеству, но и просветил в отношении будущего. Выяснилось это, когда у нас были гости. Вызвав недоуменное смущение моих близких и рассмешив гостей, в ответ на вопрос одного из них «Кем ты будешь, Людочка, когда вырастешь?», я без промедления заявила: «Самой красивой женщиной в Советском Союзе».
Как и большинство малышей, я действительно была хорошенькая: пухленькая черноглазая чернобровая смугляночка с каштановыми кудрями. Конечно же, с возрастом я теряла беспрекословную веру в слова взрослых, но, уверена, что наивная детская самоуверенность в собственной неотразимости стала одним из важных камней в строительстве фундамента моей самооценки.
***
Мама не раз рассказывала, как «мучилась» со мной, потому что, если вдруг у меня руки оказывались грязными (упала, например), я настаивала на том, что их нужно срочно вымыть (мама демонстрировала, как я шла с недовольно-брезгливой физиономией, выставив перед собой растопыренные ладошки). Предложение стряхнуть грязь, вытереть платочком – меня не устраивало…
Я и сейчас очень брезглива, особенно относительно всего, что связано с едой. Когда вижу, как в транспорте кто-то грызёт ногти, меня физически тошнит…
***
В детстве меня называли «старый нос». И отнюдь не из-за формы или размеров носа, который только к трудному подростковому периоду достиг своего совершенства и позволяет безошибочно определить мою национальную принадлежность (меня одинаково легко принимают за свою и грузины, и евреи). Это прозвище мне досталось в связи с тем, что я с раннего детства вела себя слишком разумно, была не по-детски спокойна, говорила и рассуждала, «как взрослая». Мне было неуютно со сверстниками: мне были непонятны их капризы, неумение выговаривать слова, их игры, визги, возня в грязном песке… Я не играла в куклы, мне было неловко делать вид, будто они разговаривают, едят, спят, ходят. В лучшем случае, наблюдала, как играют другие дети. Увы, ещё достаточно долго мне было не просто общаться со сверстниками, но об этом, пожалуй, позже.
***
Играть я любила с папой. Однажды зимой мы с ним играли в футбол. Играли дома. Дом – маленькая японская фанза. Вместо мяча – резиновая калоша. Не помню, где были ворота, но в результате точного удара калоша вылетела в окно. И до самой весны, пока не пришли грузы с большой земли, наше окошко было закрыто фанерой.
Это было не единственное наше с папой хулиганство. Часто мы затевали не менее рискованные игры. В доме была плита, которую топили дровами. Сверху – металлическая крышка с круглыми отверстиями, они закрывались несколькими металлическими кольцами разного диаметра, что позволяло ставить на открытый огонь кастрюли и сковородки разного размера. Мне нравилось наблюдать, как ловко мама поддевала специальным металлическим крючком эти горячие кольца… Мы с папой любили огонь. Когда мамы не было дома, мы устраивали фейерверк: папа садился перед плитой, я забиралась к нему на колени, и мы бросали спички на раскалённую плиту; спички вспыхивали, шипели, подскакивали! Мы оба были в восторге и от потрясающего зрелища, и от того, что совершали запретное действо. Даже если мама не заставала нас за этим пожароопасным занятием, ей сообщал о нём адский запах серы, который дьявольски долго не выветривался. Мама сердилась, возмущалась; мы с папой, признавая вину, становились лицом в угол и ждали, когда нам будет позволено раскаяться в содеянном до очередного нестерпимого желания огненного праздника.
Позднее, когда мы жили на Украине, а я была уже не единственной, а старшей (мне было пять, когда родилась сестра, и четырнадцать, когда появился брат), вода в ванной нагревалась с помощью дровяного титана. Мы с папой выбирали время, когда оставались дома вдвоём, (не так часто это случалось), и разжигали огонь. Летом для этого удовольствия достаточно было собрать под окнами пару вёдер сосновых шишек (гарнизон располагался в прекрасном сосновом лесу), зимой нужны были дрова. Но мы с папой больше всего любили жечь старые газеты, тетради, разные другие «лишние и ненужные» вещи. Мы усаживались рядом перед открытой дверцей, смотрели на огонь, молчали, и было так хорошо! Нам с папой и теперь доставалось от мамы, потому что мамины и наши представления о нужности вещей часто не совпадали. Как-то, помню, был почти скандал – за отсутствием достаточного количества горючего материала мы сожгли мамины кожаные босоножки, которые она, как оказалось, собиралась починить, а мы решили, что она выставила их, чтобы выбросить…
Когда у нас появилась возможность построить дом (сыновья начали зарабатывать деньги), моим главным требованием к проекту был камин, настоящий, не электрический.
***
Играть я не любила, но очень любила читать… Читать научилась так рано, что даже не помню, когда и как. Это произошло, когда мы жили на Сахалине. Папа с утра до ночи, а нередко и ночами, пропадал на службе, мы с мамой проводили длинные дни вдвоём. Мама много читала и, чтобы я её не отвлекала, научила читать и меня (так она объясняла). Я довольно быстро освоила нехитрую науку, мне очень нравилось, как разные знакомые и незнакомые слова складываются из одних и тех же букв. Потом стало буквально преследовать желание узнать, понять, почему именно так, а не иначе называются разные предметы: почему стул называется «стул», стол – «стол», а не наоборот или как-то иначе, «окно», например… Мои вопросы выводили маму из терпения. Она часто вспоминала с раздражением (да я и сама об этом помню), как «Она (то есть, я) буквально пытала меня: „Почему стол называется стол, а не окно, не стул, не шкаф?“. Ответ „так люди назвали“, её, видите ли, не устраивал… она снова спрашивала: „Какие люди? когда? почему именно так, а не наоборот, не по-другому?“ Представляете? Ну, какому нормальному ребёнку это интересно?». Видимо, я долго и не однажды надоедала маме, потому что не раз, когда я была уже взрослая, когда я, по её мнению, «занудничала», мама, упрекая меня в упрямстве и в том, что я «не от мира сего», часто напоминала мне о том «кошмаре и мучениях», когда я её «доводила этими вопросами до белого каления»…
Короче, разочарованная мамиными ответами, я пыталась самостоятельно проникнуть в эту тайну. В связи с ограниченным наличием в те годы и в том месте детских книг, я читала газеты (которые доставлялись в гарнизон), мало что понимая, но расширяя запас слов и совершенствуя технику чтения (о чём я тогда не помышляла), и надеясь когда-нибудь найти там ответ на свой вопрос…
Тайна так и осталась для меня неразгаданной, как и для научного мира, выдвинувшего ряд теорий, ни одна из которых не находит надёжного подтверждения. Слова из Торы «И образовал Господь Б-г из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привёл к человеку, чтобы видеть, как он назовёт их. И как назовёт человек всякое живое существо, так и имя его. И нарёк человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым;…» тоже, увы, не дают ответа на все возникающие по этому поводу вопросы.
***
В те же годы раннего детства, когда мы жили на Сахалине, пережила я и очень неприятное «чувственное» открытие. Детей в гарнизоне было мало, далеко не все офицерские жёны решались ехать «на край света», большинство предпочитало ждать мужей, оставаясь с детьми на материке. По соседству с нами жила семья, в которой была девочка лет 8 (мне было 4). По-видимому, только из-за отсутствия ровесниц девочка, (я не помню, как её звали) снисходила до общения со мной. Как правило, она приходила к нам. Вела себя эта девочка очень странно. Хорошо помню такую ситуацию: мы сидим в комнате за столом, рисуем; мама входит из кухни и ставит на стол тарелку свежеиспечённых пирожков, предлагая нам попробовать. Девочка решительно отказывается, а когда мама выходит, быстро хватает с тарелки два пирожка и прячет их в карманы. На меня она не обращала внимания, считая, вероятно, что я слишком мала. Я чувствовала себя очень неловко, но молчала и маме ничего не рассказывала.
У меня был набор игрушечной посуды, который подарила бабушка Дина перед нашим отъездом с Украины – кукольные деревянные тарелочки и горшочки, расписанные яркими цветами и ягодами на блестящем чёрном фоне. Помню приятное ощущение прикосновения к лакированной поверхности, мне нравилось их гладить… Со временем моя посуда стала странным образом исчезать. Мама ругала меня, решив, что я выношу игрушки на улицу и там оставляю.
Как-то мы с мамой пошли в гости к этой девочке. Женщины занимались своими делами внизу (японские домики были маленькие, но двухэтажные, с крутой внутренней деревянной лестницей, с которой я, неуклюжая, в нашем доме несколько раз скатывалась кубарем), а мы играли в комнате на втором этаже. Девочка решила рисовать. На правах старшей она, как всегда, командовала. Распорядилась, чтобы я достала цветные карандаши из ящика письменного стола (сама она сидела на полу с игрушками в противоположном углу комнаты). Я выдвинула ящик и увидела свои пропавшие красивые тарелочки.
Чувство, которое я испытала, можно назвать паническим ужасом, было ощущение, что я увидела что-то страшное, мерзкое, ужасное… Я задвинула ящик и, ни слова не говоря, помчалась вниз, к маме, требуя немедленно уйти. Мама была удивлена и напугана, потому что обычно я была очень спокойная, послушная… Не дожидаясь, когда мама закончит свои извинения и прощания, я убежала. Мама пыталась выяснить причину моего неприличного поведения, но видя, в каком я состоянии, не стала настаивать.
После этого «открытия» я ни за что не хотела встречаться с соседской девочкой. Отчаявшись получить объяснения, мама рассказала о моей «неприличной выходке» папе. Но и папе я не могла и не хотела ничего объяснять. Родители были вынуждены принять мои условия.
Только много позже я поняла, что мне тогда впервые в жизни было стыдно, очень стыдно! К тому времени со мной никто ещё не обсуждал проблему воровства. Но я почувствовала, не понимая толком, что стала свидетелем чего-то очень плохого, недопустимого, грязного… И долго ещё, вспоминая свои тарелочки в чужом столе, я переживала очень неприятные чувства.
Это стало моей второй в жизни тайной, но не приятно волнующей, как «дружба с луной», а неприятно-тягостной…
***
Казалось бы, навсегда забытое ощущение всплыло из глубин памяти через много лет, спровоцированное не воспоминанием, а ситуацией «здесь и сейчас». Моему Коле тогда едва исполнилось два года. Мы жили в деревне Буреги, Старорусского района, работали в участковой больнице. Наконец-то приехала врач-терапевт (полтора года до этого других врачей, кроме нас с мужем, в больнице на сто коек не было). У соседнего подъезда нашего четырёхквартирного дома, где разгружали вещи вновь прибывшего семейства (у коллеги тоже был маленький сынишка), собралась ребятня, привлечённая столь редким в деревне зрелищем. Мои мальчишки – среди прочих. Подошло время обеда. Мою младшему руки. Он зажал правую ладошку в кулак и с непонятным упорством отказывается разжать.
Я испугалась, потому что незадолго до этого то же самое проделал Тимур, который всего на два с половиной года старше. Тимка прятал от меня глубокую рану между мизинцем и безымянным пальцем, грязную, с запёкшейся кровью. Увидев мой испуг и невольные слёзы, Тимурик успокоил: «Не плачь, мама, ничего страшного! Даже если бы я отрезал палец, – новый вырастет!» – уверил он меня… (так хорошо «вижу» его мордашку при этом, слышу его голос)…
А у Колюка на ладошке оказался малюсенький белый пластмассовый лебедь с красным клювом… Я видела, понимала, что мой двухлетний сын испытывает точно те же чувства, какие вырвались из моей памяти… Как плохо было нам обоим! Как я ему сочувствовала!.. Как можно мягче, (видела, чувствовала, что он и сам всё понимает), преодолевая собственную боль и жалость, заставила пойти и положить игрушку туда, где он её взял…
***
Помню, как страдала от того, что долго не могла произносить звук «р». Я уже давно и много читала, а эта ненавистная «р» мне никак не давалась… Я была очень недовольна собой. Прекрасно помню, как произнесла этот звук впервые. Всё случилось там же, на Сахалине. Была зима, но ещё до Нового года, значит, мне было без малого пять… Папа был на службе, мама вышла во двор за дровами; я, продышав прозрачный кружочек на морозном стекле, наблюдала, как ловко мама рубила небольшие поленья на щепки. Целенаправленно, осмысленно, громко, пользуясь тем, что меня никто не слышит (в присутствии родителей мне было неловко демонстрировать своё неумение), стала произносить слова с этой непокорной буквой: «руки, варежки, дрова, топор, сарай, двор, ворота, ворона, курица, мороз, рот, пар…» И у меня наконец-то получилось!.. Как я была счастлива! С каким нетерпением ждала в тот день папу, чтобы продемонстрировать своё умение, свою «взрослость»!
Став взрослой и наблюдая за чужими, а позднее и за своими детьми, не раз убеждалась, какой восторг испытывает ребёнок, делающий первые шаги, научившийся самостоятельно есть, одеваться, кататься на велосипеде… И как важно и значимо, когда родители разделяют и помогают закрепить ситуацию успеха.
Я безмерно благодарна маме за то, что с раннего детства, поощряя мои попытки чему-то научиться (как правило, это относилось к моим не очень умелым рукам), мама неизменно повторяла: «Не боги горшки обжигают!». И особенное отношение к пословицам и поговоркам у меня сложилось очень рано тоже благодаря маме.
***
Просматривала свои детские фотографии и с некоторым удивлением (казалось, что навсегда об этом забыла) вспомнила, как нежно я любила в 4—5 лет свой пёстренький полосатый трикотажный свитерок. Вероятно, он был куплен мне «на вырост», а, может, потому, что не было поменьше. Но мне удалось носить его несколько лет (так мне помнится). Прекрасно помню, когда на нём стали появляться дырочки, и мама хотела его выбросить, я каждый раз настаивала, чтобы она их зашивала-штопала. Помню, как искренне страдала, когда пришлось расстаться с любимой одёжкой. Почему я была так к нему привязана?.. Я и сейчас надолго «привязываюсь» к некоторым предметам гардероба.
***
Первый новогодний праздник, который я хорошо помню, был тоже на Сахалине. Встречали год 1949. Папе – капитану медслужбы, полагался в то время ординарец. Ординарцем был Коля Кривенко, который после демобилизации, если я правильно помню разговоры родителей, играл в футбол на своей родине, Украине, по-моему, за Донецкий «Шахтёр». Колю я помню очень хорошо, потому что он чаще помогал не папе, а нам с мамой: колоть дрова, например, растапливать печку, иногда он оставался со мной за няню, когда маме нужно было куда-нибудь уйти. Родители долго не могли понять, почему я, когда у меня что-то не получалось, сердито говорила: «Иди налево!». Всё прояснилось, когда Николай в сердцах сказал при маме: «Едритвоюналево!».
Так вот, Коля не только срубил к Новому Году красивую ёлку, но и сделал ещё один замечательный подарок. Когда утром 31 декабря я проснулась, в углу комнаты, которая не была, к счастью, заставлена мебелью, стояла благоухающая свежая пушистая ёлка, а вокруг неё – звери. Пара белых зайцев, рыжая лиса, коричневый медведь, серый волк, ёжик с розовым животиком, полосатый кот и чёрный пудель с красивыми глазами были вырезаны из фанеры, и ростом были не намного ниже меня. Звери держали лапы в стороны так, что, стоя полукругом у ёлки, образовали хоровод. Они были замечательные! А вместо игрушек ёлку украшали 100-граммовые плитки шоколада «Ванильный», целую коробку которого папе по заказу привезли с большой земли. Прекрасно помню, что обёртка была шоколадно-коричневого цвета, с белым ромбом посредине и коричневой надписью на нём: «Шоколад ванильный». Ещё на ёлке были ватные «снежные» хлопья, бумажные снежинки, которые мы вырезали вместе с мамой накануне, и завёрнутые в шоколадную фольгу грецкие орехи.
Не могу вспомнить лучшего новогоднего сюрприза…
***
Одно воспоминание тянет за собой другое. Но то, о котором собираюсь рассказать, связано с чувством, далёким от любви и привязанности. Звери из фанеры вызвали восторг, а всякой живности я в детстве боялась, причём, не только собак и котов, но даже на кур, я помню, смотрела с опаской. Конечно же, этому можно найти объяснение. Первопричиной могло стать то, что, со слов мамы, когда мне было года полтора, ещё там, в Катта-Кургане, маленькая соседская собачонка «неудачно схватила тебя (то бишь, меня) за руку». О собачьей неудаче до сих пор напоминает шрам на моём правом запястье. А, может, дело ещё и в том, что в нашем доме никогда не было животных. Родители очень заботились о чистоте. Папа вообще был чрезмерно брезглив, особенно чувствителен к запахам (как и я, впрочем,); был убеждён в том, что единственная роль домашних животных – служить источником глистов и кожных заболеваний. Ну, и переезжали мы с места на место каждые год – полтора… От страха перед пернатыми я избавилась довольно легко и скоро, а вот что касается собак и кошек… Вспомнила тяжёлую для меня ситуацию стыда, которая теперь кажется просто смешной, а тогда, должна признаться, мне было по-настоящему страшно и стыдно за свой страх.
Было мне тогда уже 14, и случилось это в доме моего одноклассника, в которого я была почти влюблена, в день его рождения… Ощутили значимость момента? Так вот, сидим мы, человек десять девчонок и мальчишек за праздничным столом, нас угощает его замечательная бабушка (его родители-врачи – на работе). Бабушка у Вовки Канцлера была особенная. Помню, когда она сердилась на своего любимого внука, она говорила: «Ах ты, остроганец ты этакой!» и смотрела на внука с трудно скрываемым обожанием. Так же она называла и большущего сибирского кота, который часто шкодничал, но взгляд на кота был по-настоящему недовольный. Продолжаю: сижу я за столом, и вдруг этот толстый кот молча, без предупреждения вспрыгивает из-под стола ко мне на колени. Я вскрикнула от неожиданности и ужаса, который, без сомнения, отразился на моём лице. Все дружно засмеялись. Кот, проигнорировав мою реакцию и предварительно потоптавшись, уютно устроился на моих коленях, явно не собираясь покидать их в ближайшее время. Одноклассники, конечно же, стали шутить, что кот совсем не случайно выбрал именно мои колени… Мне же было не до шуток и даже не до смущения по поводу их подтруниваний. Я сидела ни жива, ни мертва, – я испытывала страх, который остальным был не понятен, страх, которого я стыдилась, и который всеми силами старалась скрыть.
***
Коллегу по страху я встретила через пару лет в Ленинграде. У моей квартирной хозяйки был внучатый племянник, пятилетний Женька – очень серьёзный и обстоятельный парнишка. Как-то зимой, когда в его группе детского сада был карантин, мама привезла его к своей тёте. Я возвращалась с занятий и поднималась на наш последний пятый этаж, когда встретила Женьку, спускавшегося вниз. В чёрной длиннополой цигейковой шубе «на вырост» и в такой же шапке, завязанной под подбородком, утонувшем в большущем шарфе с тугим узлом сзади, в несгибаемых валенках с калошами, Женька спускался аккуратно, медленно, держась за прутья перил. «Пойду воздухом подышу», – важно сообщил он мне тоном моей хозяйки Анны Николаевны.
Воздух был заперт внутри небольшого типично питерского двора-колодца, ворота в который в те годы закрывались на ночь, и тогда войти или выйти можно было только через дворницкую. Женька говорил истинную правду – ничто другое, кроме как «подышать», учитывая размеры заасфальтированного двора и Женькину амуницию, было для него невозможно – ни побегать, ни нагнуться, ни даже повернуть голову…
Едва я успела раздеться и вымыть руки, раздался стук в наружную дверь (звонок Женька достать не мог, он поворачивался к двери спиной и стучал в неё ногой). Я, удивившись его прыти, открыла. Женька стоял на пороге запыхавшийся, испуганный и смущённый. «Женечка, что случилось?». «Там во дворе кот гуляет». «Ну и что?». «Пускай сначала кот погуляет, а потом я».
Как хорошо я его понимала!
***
Помню, мы переехали в деревню, дети были маленькие, мужу кто-то из сотрудников больницы подарил котёнка – серый пушистый комочек, довольно симпатичный. Володя часто рассказывал о том, что в их доме всегда жил кот, которого он очень любил, с которым спал… Я не разделяла его восторгов, но была в состоянии их понять. Решила не быть эгоисткой, не лишать мужа радости и позволила котёнку остаться, тем более, муж обещал все заботы о животном взять на себя. Но моя брезгливость одержала безоговорочную победу над добротой и толерантностью, когда через пару дней я застала лохматого красавчика на кухонном столе, вылизывающего детскую тарелочку. У Володи не нашлось аргументов «за», и ему пришлось вернуть «подарок»…
***
Лет через двадцать в нашем доме всё же поселился котёнок, подаренный мне по моей собственной «вине». Мы уже больше пятнадцати лет жили в Новгороде. Мальчики-студенты учились в Питере. Володя был по-прежнему главным врачом, а я, поменяв несколько медицинских специальностей, реализовала наконец свою давнюю, долгие годы казавшуюся несбыточной, мечту о психотерапии и, о чём раньше даже мечтать не могла, получила возможность вести частную практику. В ту зиму особенно памятной стала супружеская пара, потерявшая единственного сына – 18-летний парень, несколько месяцев назад получивший права, не справился с управлением на обледеневшей дороге… Так сложились обстоятельства (режим и особенности их работы, отсутствие у меня собственного кабинета и пр.), что сеансы проводились вечерами у клиентов дома, благо они жили неподалёку. Единственной радостью для переживавших трагедию родителей стал их большущий кот «Дымок, Дымка». Кот действительно был очень красивый: крупный, пушистый, ровного дымчатого окраса, с зелёными глазами и роскошным хвостом. Видя их привязанность к питомцу, я искренне высказывала своё восхищение их любимцем и даже позволяла (в интересах терапии) этому тяжёлому нахалу дремать на моих коленях. По-видимому я не только успешно справилась с последствиями травмы своих клиентов (может, напишу позже об этом подробнее), но и настолько убедительно сыграла роль любительницы кошек, что через пару месяцев после окончания работы мне по телефону поступило неожиданное предложение: «Людмила Николаевна, Вам так понравился наш Дымок, а у его мамы как раз сейчас родилось пятеро котят; мы договорились, что одного возьмём для Вас; Вы хотите кошечку или котика?». Что было делать? Признаться, что я не люблю ни котов, ни кошечек, значит, признаться в притворстве, неискренности! По «тексту роли» выразила «благодарную радость», выяснила, что из пятерых котят три кота, из них один почему-то рыжий.
Теперь, когда мой любимый рыжий Бонифаций настойчиво пристаёт ко мне с поцелуями, мне самой не верится, что пригревшийся когда-то на моих коленях кот-остроганец мог вызвать такую бурю неприятных эмоций.
***
Сейчас только осознала, почему все описанные воспоминания связаны с Сахалином… Я совершенно не помню того, что было со мной до трёх-трёх с половиной лет, когда мы туда переехали, поэтому совершенно не помню свою бабушку Дину, мамину маму. По рассказам тёти Фани знаю, что бабушка очень любила меня – первую внучку. Что её огорчал и даже пугал наш отъезд на Сахалин. Могу её понять – какой-то грузин увозит её дочку и внучку на край света… Тётя говорила, что бабушка просила хотя бы меня оставить, очень боялась за меня…
Умерла бабушка Дина молодой, ей было всего 46 лет, 2 марта 1949 года, через месяц после моего пятилетнего юбилея. Хорошо помню этот день… Папа был на службе, пришёл японец (или китаец), принёс телеграмму. Мама, она была беременна, прочитала, вскрикнула, а потом завыла, спустившись по стенке на пол… Мне стало страшно, я видела и понимала, что маме очень плохо и больно. А мама, через какое-то время увидев меня, перепуганную, сердито закричала: «Уйди отсюда!». Я послушно ушла, мне тоже было плохо и страшно… К этому возрасту я уже не была «почемучкой», не задавала вопросы по любому поводу. Самостоятельно искала ответы, создавала собственные теории, делала собственные выводы, конечно же, часто совершенно неверные… В тот раз – никакой версии; я с особенным нетерпением ждала папу. Узнала, что «умерла бабушка». Я ещё не понимала в полной мере, что это значит, но чувствовала, что случилось что-то страшное, непоправимое. Мама плакала, папа был очень грустный. Мне было жалко нас всех…
Позднее, когда я спрашивала у тёти Фани о бабушке, она рассказывала, как бабушка любила меня, как страдала, как говорила, когда уже была серьёзно больна, что выздоровела бы, если бы я оказалась рядом… Моя дорогая тётя, вероятнее всего, хотела, чтобы я знала и помнила о бабушкиной любви, а у меня этот рассказ на какое-то время вызвал чувство вины, ответственности за бабушкину смерть…
***
Не хочется мне на такой грустной ноте завершать рассказ о том, что смогла воспроизвести моя память о первых пяти годах жизни. Лучше о том, что случилось в день моего рождения, когда мне исполнилось 5 лет, я очень хорошо это помню. Мама повезла меня к профессиональному фотографу, в фотоателье. В витрине были фотографии, это меня заинтересовало. Вошли. Фотограф усадил меня и стал настраивать фотоаппарат на треноге, несколько раз прятал голову под чёрной накидкой, снова появлялся, подходил, отходил… Мне всё не нравилось. Начну с того, что я не любила, когда мама привязывала мне на макушку белый бант, – на мой взгляд, я уже давно выросла из бантиков… Но в тот раз мама настояла. Ещё больше мне не нравился фотограф, потому что теми же руками, которыми он ставил стул, возился с фотоаппаратом, со своей чёрной тряпкой, он трогал моё лицо, поворачивая мою голову то в одну, то в другую сторону… И совсем я рассердилась, когда приторно-сладким голосом он принялся настаивать, чтобы я улыбнулась; мама ему поддакивала. Ни улыбаться, ни притворяться не хотелось. Поняв бесплодность своих усилий, фотограф обречённо ткнул в объектив со словами: «Смотри вот сюда, сейчас птичка вылетит».
Ну, это было уже сверх моего терпения: «Я не маленькая, не надо мне про птичку рассказывать. Я буду смотреть, куда покажете, но я хочу, чтобы моя фотография была в витрине»… Оторопевший фотограф пообещал и выполнил своё обещание. А папа, спустя года полтора «тайно» воевавший вместе с китайцами против Южной Кореи, заказал в Гонконге цветной портрет с этой чёрно-белой фотографии.
***
Раньше как-то не задумывалась о причинах своей нелюбви к крупным городам, хотя давно пришла к выводу о том, что я – провинциалка. Неуютно чувствую себя в больших, даже очень красивых и любимых городах, таких как Барселона и Париж, Вена и Будапешт, Прага и Питер, Тбилиси, Киев, Иерусалим… Меня утомляет обилие людей и недостаток зелени, шум транспорта и необходимость тратить много времени на перемещение тела в пространстве… Поэтому во время путешествий я выбираю маленькие отели в зелёной зоне, вдали от городского шума. Вот сейчас вернулась из прекрасного, но шумного центра Будапешта в уютный симпатичный отель, расположенный в высоком районе Буды. Вокруг много зелени, благоухает цветущая сирень, вечерами тишину нарушают лишь соловьиные трели – красота!
Почему говорю об этом сейчас? Потому что корни моей провинциальности наверняка кроются там же, в раннем детстве, а, возможно, и в более глубоких подвалах генетической памяти. В течение более сотни лет многие поколения моих предков-евреев жили в соответствии с законом Российской империи «о постоянной черте еврейской оседлости» в маленьких местечках. И родилась я в небольшом узбекском городке, и жила потом в провинциальном Бердичеве, а дальше – и вовсе в военных гарнизонах…
У меня была возможность остаться после института в Ленинграде – предлагали аспирантуру на кафедре физиологии. Я отказалась, чем привела в недоумение и однокурсников, и преподавателей, хотя это был самый короткий путь к реализации прежней мечты о преподавании в институте. Среди других причин (хотела лечить детей, а не «изучать мышей и кроликов», хотела своих детей и свой дом, а не комнату в общежитии) главной было нежелание жить в Ленинграде…
Была очарована провинциально-уютной Старой Руссой, куда мы приехали по распределению, и которая стала для меня не только городом, в котором началась моя по-настоящему самостоятельная жизнь, но и родиной обоих моих сыновей.
Когда работала в Старой Руссе, очень важная дама – коллега из министерства, проверявшая в составе большой комиссии педиатрическую службу города (я – микропедиатр, была в единственном числе), после завершения проверки предлагала мне работу в Москве с предоставлением «на первое время» однокомнатной квартиры. Мне по молодости было даже немного неловко перед женщиной, старавшейся убедить меня перспективой возможностей, которые откроет передо мной столица; я отказалась, не раздумывая, потому что даже представление о возможной жизни в мегаполисе меня напрягает. Министерская дама, судя по её реакции, видимо, решила, что переоценила мои интеллектуальные способности. А я, анализируя закономерности своей провинциальности, рада, что осталась верна себе.