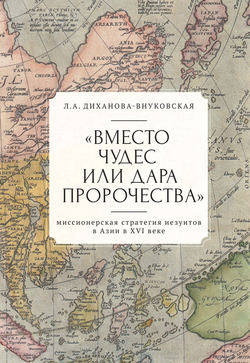Читать книгу «Вместо чудес или дара пророчества»: миссионерская стратегия иезуитов в Азии в XVI веке - Любовь Диханова-Внуковская - Страница 2
Глава 1
Возникновение Общества Иисуса и выделение пропаганды веры как одного из приоритетных векторов его деятельности
1.1 Создание Общества Иисуса
ОглавлениеВ результате Великих географических открытий и завоеваний иберийских держав конца XV–XVI вв. миллионы нехристиан оказались во владениях правителей Западной Европы, в первую очередь Португалии и Испании. По демаркационной линии, определенной папой Александром VI (1492–1503) в 1493 г. по меридиану в 370 лигах (2035 км) к западу от островов Зелёного Мыса35, и Тордесильясскому договору (1494), в сферу влияния Португалии отошли Бразилия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия и Дальний Восток. В систему геополитических интересов Испании были отнесены все территории к западу от демаркационной границы и Филиппины (карта 2 на стр. 20).
Важно учитывать, что для средневековой Европы религиозное единство являлось обязательным составляющим элементом политической стабильности36. Присутствие иноверцев и язычников внутри политических границ португальской Индии или вице-королевства Новой Испании, рассматривалось Лиссабоном и Мадридом как явная и потенциальная угроза эффективному управлению и внутреннему спокойствию региона. Поэтому, прогресс христианской миссии был крайне важен для дальнейшего строительства иберийских колониальных империй. С другой стороны, значимость миссионерской деятельности за пределами societatis christiana в XVI в. обуславливалась идеями христианской сотериологии (приложение 1), которые стали объединяющим элементом для европейского социума раннего Нового времени. Российский историк Арон Гуревич ярко показал в своей работе «Категории средневековой культуры», что в Средние века «наряду с земным, мирским временем существовало сакральное время, и только оно и обладало истинной реальностью»37.
Карта 1
Иезуитская провинция Индия (1542–1559)
«С актом искупления, совершенного Христом, – продолжает Гуревич, – время обрело особую двойственность: «сроки» близки или уже «исполнились», время достигло «полноты», наступили «последние времена» или «конец веков», – царство Божие уже существует, но вместе с тем время еще не завершилось и царство Божие остается для людей окончательным исходом, целью, к достижению которой они должны стремиться»38. Непременным условием средневекового представления о преддверии конца света являлось апокалиптическое обращение в христианство39. В соответствии с евангелистической традицией Иисус утверждал, что только после того, как все народы услышат слово Божье, будет приход антихриста и наступит конец света. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» (Мф 24:14). «И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие» (Мк 13:10).
Основным фактором, поддерживающим подобные эсхатологические воззрения, была вера в то, что история человечества стремительно приближается к ее концу. И столкновения, либо открытия новых народов, только поддерживали эту тенденцию. Наиболее ярким примером является идентификация нашествий монгол и турок с легендарными народами гогов и магогов, дьявольские силы, которые по данным «Откровения Иоанна Богослова», напрямую были связаны с концом света40. Воинственность этих народов поддерживало убежденность средневековых ученых мужей в данных выводах.
В XVI в. эсхатологическую теорию подпитывало ускорение темпов миссионерской экспансии, что убеждало современников в приближении второго пришествия. Так, например фламандский теолог Йоханес Фредерик Люмний (1533–1602) утверждал, что обращение индусов является знаком надвигающегося конца света41. В свою очередь доминиканский монах Гаспар да Круз (1520–1570) считал божественной предопределенностью испанские открытия в Новом Свете и достижения португальских мореплавателей в Индии. Посредством этих открытий, писал он: «… Господь через своих слуг обратил много новых народов в истинную веру»42. Тем самым средневековые миссионеры, как и их последователи в период раннего Нового времени, помещали новооткрытые народы в сотериологический процесс: в Средние века в качестве антагонистов, а в раннее Новое время – как объекты евангелизации. В тоже время многие мыслители этих эпох были убеждены в том, что дата конца света зафиксирована во времени, а темпы миссионерской деятельности напрямую коррелируются с «апокалиптическим расписанием». Так глава ордена францисканцев, формируя миссию по обращению ацтеков, символически выбрал двенадцать братьев для ее осуществления, полагая, что их миссия – последняя в деле евангелизации и в предшествии конца света43.
Карта 2
Сферы влияния Португалии в XVI веке
С открытием новых территорий также встал острый вопрос об юрисдикции: чья власть распространялась на новооткрытые души? В католической традиции папа Римский осуществляет духовную юрисдикцию над societatis christiana непосредственно через своих епископов. Однако, власть самих епископов ограничена территорией их диоцезов. Регионы, выходящие за рамки официальных диоцезов, становятся территориями миссий, юрисдикция над которыми принадлежит исключительно римскому понтифику44. В Средние века и раннее Новое время папство делегировало часть своей духовной юрисдикции правительствам Португалии и Испании. Так папа Александр VI в 1493 г. предписал иберийским монархиям отправлять в отведенные земли «достойных и богобоязненных людей, обладающих нужными знаниями, опытом и искусством, чтобы наставлять туземцев и обитателей в католической вере и привить им достойную мораль»45.
Папская булла “Inter caetera” (1493) послужила базой для развития системы королевского патронажа: португальского падроадо (padroado) и испанского патронато (patronato), которая давала иберийским державам абсолютный контроль над католическим духовенством, действующим в сфере их влияния46. Это положение было закреплено папой Юлием II (1503–1513) в 1508 г. в обмен на обещание иберийских правительств полностью содержать за свой счет и гарантировать защиту католической церкви на дарованных им территориях47. Тем самым, духовные ордена, желающие осуществлять миссионерскую деятельность за океаном, должны были не только согласовывать свои действия с испанской или португальской коронами, но и всячески поддерживать своих патронов, поскольку королевская власть утверждала состав миссии и брала на себя большую часть ее расходов. Так, например испанская корона оплачивала проезд и ежегодное содержание миссионеров, равнявшееся 1 тыс. реалов в год48. В свою очередь Португалия в конце XVI в. выделяла в год только одной японской миссии 1000 золотых крузадо49.
Не смотря на общность колониальных политик и конечных целей, Испания и Португалия избрали разные действующие силы для дальнейшего расширения политического влияния и евангелизации интересующих их территорий. Например, Испания, обладая значительным военным и экономическим потенциалом, опиралась на уже имеющиеся духовные ордена францисканцев и доминиканцев. Столкнувшись в Америке и на Филиппинских островах с примитивными племенами, мадридский двор не видел основания для изменения средневековых методов пропаганды христианства50, основывавшихся в первую очередь на формализме и военной поддержке колониальных структур при христианизации.
Португалия иначе подошла к решению поставленного вопроса. К середине 30-х гг. XVI в. сфера португальских политических интересов охватывала Бразилию, Гвинею, южное и северное африканское побережье, Абиссинию, южное побережье Аравийского полуострова и Персии, Индию, Китай и Молуккские острова51 (карта 2 на стр. 20). После возвращения Васко да Гамы (1469–1524) в 1499 г. район Южной Азии и Дальнего Востока стал приоритетным направлением для колониальных устремлений Лиссабона. Португальский король Мануэл I (1469–1521) даже закрепил политическое значение данного открытия в своем титуле, став именоваться «король Португалии, Алгарве, властелин Гвинеи и Завоевания, Навигации и Торговли с Эфиопией, Аравией, Персией и Индией»52. Основные экономические выгоды Лиссабонский двор получал от монополии на торговлю пряностями53, а также, хотя и в меньшей степени, от монополии на поставки лошадей54. Португальские торговцы, практически полностью заменив мусульманских купцов, стали доминировать во внутри азиатской посреднической торговле, открыв для Европы морские пути в Японию и Китай55. Центром португальской Индии стал город Гоа, захваченный в 1510 г.
Однако своими силами Португалия не могла освоить не только огромное пространство, раскинувшееся в трех частях света, но даже, особо интересующий ее, регион Южной Азии и Дальнего Востока. Несмотря на возросшее международное значение, она, по подсчетам историков56, оставалась наименее населенной страной Европы. Ко второй четверти XVI ст. ее население достигало 1.3 миллиона человек, в то время как соседняя Испания насчитывала 5.3 миллионов, Франция – 19.5 миллионов, Англия – 3 миллиона.
В попытке увеличить миссионерский контингент, используя уже имеющиеся ресурсы, португальский король Жуан III Благочестивый (1521–1557) провел, с согласия папского престола, реорганизацию доминиканского и францисканского духовных орденов. Монарх, однако, остался не доволен ни размерами заокеанской миссии, ни ее качеством57. Дело в том, что, столкнувшись в Азии с развитыми религиозными системами, пользующимися государственной поддержкой, а не с примитивными племенными структурами, старые ордена оказались не способны развить пропаганду христианства вне военно-торговых форпостов Португалии. Поэтому получив в 1538 г. донесение от Диего де Гувейа (1451–1557), португальца, преподававшего в Парижском университете, о молодых образованных священниках, ведущих примерный образ жизни и стремящихся обращать язычников58, Жуан III приказал своему послу в Риме оказать давление на папу Павла III (1534–1549). Король настаивал на скорейшем приглашении как можно большего числа последователей Игнатия Лойолы (1491–1556) в свое королевство59.
Павел III благосклонно отнесся к ходатайству Жуана III и 27 сентября 1540 г. буллой «Regimini militantis ecclesiae»60 учредил новый католический орден «Общество Иисуса». Устремления иезуитов «приумножить число верующих и расширить границы Святой Матери Церкви»61 нашли радушный отклик в папской курии: папа благоволил новому ордену, обещавшему, благодаря особому религиозному обету подчинения викарию Христа, стать его ближайшим помощником в распространении католицизма, как в заморских миссиях, так и в Европе. В 1545 г. Павел III позволил иезуитам свободно проповедовать, исповедовать кающихся, давать верующим Св. Причастие, отправлять богослужение, не испрашивая на это разрешение у епископов и местных священников. Булла Павла III “Licet debitum” от 18 октября 1549 г. даровала генералу Общества Иисуса полную независимость от любой церковной власти, кроме папской. Последующие папы Юлий III (1550–1553), Григорий XIII (1572–1585), Пий IV (1559–1565), Пий V (1566–1572) и Григорий XIV (1590–1591) продолжили череду прав и привилегий в отношении Общества Иисуса. Важнейшими из них были: право устраивать публичные курсы; строить церкви; учреждать общежития и принимать пожертвования; разрешение заниматься торговлей и банковскими операциями с целью получения средств на содержание миссий, домов, коллегиумов и церквей; право пользоваться привилегиями всех других орденов62.
Таким образом, к 40-м гг. XVI в. сложились две иберийские колониальные стратегии, имевшие сходные цели и процессы развития, однако отличавшиеся в методах и средствах для достижения одной из основных задач: религиозного единства на землях, входящих в сферу их геополитических интересов. Испания, осуществлявшая прямой захват заокеанских территорий, сделала ставку на предшествующие ордена и средневековые методы пропаганды христианства. Португалия, вследствие исторически обоснованных обстоятельств (малочисленность собственного населения, сложные объекты для евангелизации, в лице сильных и независимых государств Азии) вынуждена была искать новые инструменты, более адаптированные к изменившимся условиям Раннего Нового времени, а, следовательно, лучше подготовленные для руководства азиатскими миссиями. Жуан III Благочестивый поставил миссионерскую деятельность иезуитов на службу Лиссабону при распространении политико-экономического влияния на заморских территориях в XVI в. Этот выбор нашел отклик в папской курии, которая рассматривала Общество Иисуса как ближайшего помощника в распространении католицизма, как в нехристианских землях, так и в Европе. Тем самым, колониальные устремления Лиссабона в Южной Азии и на Дальнем Востоке явились одним из факторов, поспособствовавших основанию Общества Иисуса в 1540 г., сделав Португалию основным патроном иезуитов-миссионеров в XVI в.
35
Neill, S. A history of christianity in India: the beginning to 1707 AD / S. Neill. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1984. – 583 p. – P. 399
36
Nirenberg, D. Neighboring faiths: christianity, islam, and judaism in the Middle ages and today / D. Nirenberg. – Chicago: Univ. of Chicago Press, 2014. – 352 p. – P. 148–149
37
Гуревич, А. Я. Категории средневековой культуры / А. Я. Гуревич. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Искусство, 1984. – 350 с. – C. 119
38
Там же. С. 119
39
Daniel, E. R. The Franciscan concept of mission in the High Middle Ages / E. R. Daniel. – Lexington: Univ. Press of Kentucky, 1975. – 168 p. – P. 13
40
Jones W. R. The Image of the Barbarian in Medieval Europe / W. R. Jones // Comparative Studies in Soc. and Hist. – 1971. – Vol. 13. – P. 399
41
Lumnius, J. F. De extremo Dei iudicio, et Indorum vocatione / J. F. Lumnius. – Venetiis: Apud Dominicum De Farris, 1569. – 16 p. – P. 6
42
Boxer, C. R. South China in the Sixteenth century / C. R. Boxer. – London: Hakluyt Soc., 1953. – 388 p. – P. 51
43
Phelan, J. L. The millenial kingdom… P. 52
44
Clossey, L. Salvation and globalisation… P. 21
45
Подберезский, И. В. Католическая церковь… C. 11
46
Clossey, L. Salvation and globalisation… P. 20–21
47
Берзин, Э. О. Католическая церковь… C. 8
48
Подберезский, И. В. Католическая церковь… C. 21
49
Rodrigues H. Local sources of funding for the Japanese Mission / H. Rodrigues // Bull. of Port.-Jap. Studies. – 2003. – Vol. 7. – P. 117
50
Подберезский, И. В. Католическая церковь… C. 22-24
51
Welch, S. R. South Africa under John III, 1521–1557 / S. R. Welch. – Cape Town [et al.]: Juta, 1948. – 586 p. – P. 165
52
Diffie, B. W. Foundations of the Portuguese empire, 1415–1580 / B. W. Diffie, G. D. Winius. – Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1977. – 533 p. – P. 185
53
Ibid. P. 412-418
54
Newitt, M. A history of portuguese overseas expansion, 1400–1668 / M. Newitt. – New York: Routledge, 2005. – 300 p. – P. 109
55
Mathew, K. S. Indo-Portuguese trade and the Fuggers of Germany: sixteenth century / K. S. Mathew. – New Delhi: Manohar, 1997. – 307 p. – P. 28–31
56
Livi Bacci, M. The population of Europe: a history / M. Livi Bacci. – Oxford: Blackwell Publ., 2000. – 220 p. – P. 35
57
Corpo Diplomatico Portuguez, contendo os Actos e Relações Politicas e Diplomaticas de Portugal com as diversas Potencias do Mundo desde o Seculo XVI ate os nossos Dias: in 15 t. / ed. L. A. R. da Silva. – Lisboa: Acad. Real das Ciências de Lisboa, 1846–1936. – T. 4. – 1870. – 1541 p. – P. 102–103
58
Schurchammer, G. Francis Xavier: his life, his times: in 4 vol. / G. Schurchammer. – Rome: Jesuit Hist. Inst., 1973–1982. – Vol. 1: Europe, 1506–1541. – 1973. – 791 p. – P. 543
59
Corpo Diplomatico… P. 752-754
60
Monumenta Ignatiana. Series Tertia: in 4 vol. / ed. D. F. Zapico. – Roma: Borgo S. Spirito, 1934–1948. – Vol. 1. – 1934. – 459 p. – P. 24–32
61
Xavier, F. The letters and instructions of Francis Xavier / F. Xavier. – St. Louis: The Inst. of Jesuit Sources, 1992. – 488 p. – P. 120
62
Compendium privilegiorum et gratiarum Societatis iesu. – Romae: Collegio Romano eiusdem societatis, 1615. – 164 p. – P. 8–15