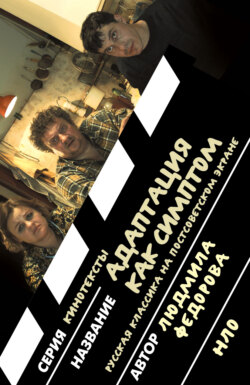Читать книгу Адаптация как симптом. Русская классика на постсоветском экране - Людмила Федорова - Страница 5
Введение
Современные исследования адаптаций: фон и контекст
ОглавлениеИсследования адаптаций, как правило, либо тяготеют к теоретическим обобщениям, для которых отдельные случаи являются лишь иллюстрациями метода, либо представляют собой сборники отдельных разборов (case studies), ценность которых в смысле концептуализации невелика. Задача настоящей книги – преодолеть ограниченность каждого из этих подходов, представив концептуальный анализ адаптаций постсоветской классики, в котором отдельные кино- и телефильмы, будучи собственно предметами исследования, дают возможность более полного понимания постсоветской социокультурной ситуации и одновременно предоставляют особого рода оптику для прочтения классики.
Оценка современного состояния этой области затруднена, с одной стороны, теоретическим разрывом между отечественными и зарубежными исследованиями адаптаций, а с другой – отсутствием в тех и других общего аппарата и языка исследования, единого представления о существующих методологиях и об истории вопроса. Как отмечает Томас Лейч, в области изучения адаптаций нет закрытых вопросов. Такая ситуация, с одной стороны, освобождает пишущего об адаптациях от внешних рамок метода, позволяет ему выработать собственный язык, соответствующий поставленным им самим задачам, но с другой – делает необходимым формулирование одних и тех же аксиом, заставляет исследователя снова и снова возвращаться к одним и тем же дискуссиям и заново совершать уже совершенные открытия. Так, еще со времен влиятельной монографии Блустоуна[22] отказ от критерия верности тексту при оценке адаптаций стал для многих исследователей ритуальным жестом – и даже жалобы на эту ритуальность в метаработах об адаптациях, в свою очередь, превратились в ритуал. Однако, по справедливому замечанию Томаса Лейча, эта декларация нуждается в повторении, потому что именно сопоставление с текстом и «проверка на верность» становится исходным пунктом оценки адаптации популярными критиками и массовым зрителем[23].
Можно было бы сказать, что каждое исследование, утверждающее свое место в общей теории адаптации, вынуждено заново упоминать все стадии развития области – но в данном случае речь идет не столько о стадиях, сколько об одновременном сосуществовании разных подходов. Вместе с тем в разные периоды (по крайней мере, в западной теории адаптаций) те или иные подходы становились популярнее или важнее других. Очертим вкратце эти подходы/условные стадии[24].
Для первого из них характерно окончательное утверждение статуса кино как полноправного искусства и концентрация на специфике его выразительных средств по сравнению с литературой. Для второго – деконструкция бинарной оппозиции «текст – фильм» и изучение адаптаций в контексте теории интертекстуальности и проблематизации понятия авторства. Основания обоих подходов были заложены Андре Базеном[25]: он предложил, отказавшись от риторики точности, изучать экранную адаптацию литературы в терминах диалога – «преломления одной работы в сознании другого создателя». Успешная адаптация, утверждает Базен, применяет полный спектр кинематографических техник в качестве эквивалента литературным формам. Успех в этом случае заключается в создании фильма, отличного от текста, но равновеликого своей модели. Не отказываясь от понятия литературного текста как образца, Базен предсказывает наступление царства адаптаций, в котором представление о единстве произведения и представление об авторе будут уничтожены – и будет тем самым предвосхищен подрыв авторитета автора Бартом («Смерть автора», 1968) и Фуко («Что такое Автор», 1969).
В 1957‐м Блустоун заявил, что роман и фильм относятся к эстетическим категориям, настолько же различным, как балет и архитектура[26]. Он предложил рассматривать экранизации как инструмент перевода между языками кино и литературы, обладающими собственными уникальными характеристиками. Правда, как неоднократно отмечали критики, это программное заявление, сделанное в предисловии книги, сопровождается анализом шести пар литературных текстов и кинофильмов, исходящим из представления о преимуществе литературы. Этот подход, подчеркивающий специфику литературного и визуального медиума, радикально трансформировался в течение 1980‐х и 1990‐х годов.
Концепция Блустоуна оказала влияние на известную работу Сеймура Чатмана (1981) «Что могут делать романы, а фильмы не могут (и наоборот)»[27]. Высшей точки, по признанию многих исследователей, эта линия интерпретации достигла в книге Брайана Макфарлейна «От романа к фильму»[28]. Развивая идеи Базена и Блустоуна и критикуя ограниченность подхода, при котором степень верности оригиналу является критерием успешности экранизации, Макфарлейн демонстрирует, как фильм, используя специфические для него техники, создает свои эквиваленты качеств литературы: семантическую неопределенность, точку зрения, фокализацию, нарративную иронию, интертекстуальность, различные фигуры речи и др. В этом же медийно-специфичном ключе исследует адаптацию Ю. М. Лотман, который подчеркивает разницу между литературой и фильмом, фокусируясь на процессе восприятия этих видов искусства. Лотман отмечает, что литература ближе к сути искусства, чем кино, поскольку в ней шире область потенциального; она позволяет читателю додумывать самому там, где режиссер должен принять за зрителя все решения и предъявить ему готовый образ:
Писатель… никогда не дает описания своего героя полностью. Он, как правило, выбирает одну или несколько деталей. Все помнят в пушкинском «Онегине» «острижен по последней моде…», но что за прическа, какого цвета волосы, мы не знаем, а Пушкин не испытывает в этом никой нужды. Но если мы будем экранизировать «Онегина», то невольно придется дать ему все эти и многие другие признаки. ‹…› В экранизации герой предстает как законченный, опредмеченный. Он полностью воплощен. И дело не в том, что у каждого читателя свое представление о герое романа, не совпадающее с персонажем экранизации. Словесный образ виртуален. Он и в читательском сознании живет как открытый, незаконченный, невоплощенный. Он пульсирует, противясь конечному опредмечиванию. Он сам существует как возможный, вернее как пучок возможностей[29].
Поэтому любое воплощение, которое пытается быть иллюстрацией, неизбежно разочаровывает, а самые интересные экранизации представляют собой диалоги с текстами. С другой стороны, в кино множество событий может происходить одновременно, оно не ограничено линейностью повествования – в отличие от литературы, которая не может говорить о нескольких предметах сразу.
Второй этап развития теории адаптаций выводит на первый план понятие интертекстуальности. Адаптация осознается как зона пересечения основных вопросов постмодернизма: авторства и интертекстуальности в широком смысле. Основополагающими теоретическими работами этого направления Лейч считает труды Роберта Штама и Алессандры Раенго, связавших теорию экранных адаптаций с представлениями, введенными Михаилом Бахтиным, Юлией Кристевой и Жераром Женнетом[30]. По словам Эрики Шин, изучение экранизации в широком смысле – это «изучение авторства в условиях исторической трансформации». Джеймс Наремор помещает адаптацию в центр современной массовой культуры, предлагая изучать ее в контексте эры механического копирования и электронной коммуникации наряду с вторичной переработкой, переделкой и другими формами пересказа[31]. Он считает, что экранизация станет частью общей теории повторения, а ее изучение займет центральное место в современной науке о медиа.
Исследователи второго этапа указывают на ограниченность подхода к адаптации как к переводу с одного языка на другой. При этом речь идет о критике традиционного представления о переводе – однако одновременно с развитием теорий адаптации происходит и развитие теории перевода, которая также отказывается от бинарной оппозиции «источник – копия» и обращается к понятию культурного трансфера. Мирейя Арагэй напоминает, что с начала 1990‐х годов историк и теоретик перевода Лоренс Венути настаивал на том, что такие концепции, как «верность», «эквивалентность» или «прозрачность», следует заменить «видимостью» и «ощутимым присутствием» переводчика в переводе. Венути специально подчеркивает, что никакой акт интерпретации не является окончательным[32]. «Видимый переводчик» скорее преломляет исходный текст, чем отражает его. Таким образом, на новом этапе теории перевода и адаптации снова сблизились: обе утверждают продуктивность концепции переписывания, а не воспроизведения.
В 1990‐е исследователи адаптаций начинают осознавать кризис постструктурализма, который «сместил фокус внимания с авторского на структурное, идеологическое, общее, институциональное и культурное в фильмах как текстах»[33], и обращаются к поиску языка и ракурса, который позволил бы «отказаться от представления об автономном оригинале – и в то же время сохранить возможность точки зрения, индивидуального усилия и критики»[34]. Как иронически замечает Дадли Эндрю, «после двенадцати лет шепота нам опять позволено обсуждать автора»[35]. Кортни Леманн, автор постмодернистских адаптаций Шекспира, задается вопросом: «Существует ли способ отказаться от тиранической идеологии Автора, сохранив при этом жизнеспособную, ответственную инстанцию, которая обеспечила бы какую-то стабильность в этом зыбучем песке?»[36] Таким образом, на новом этапе возвращается первый подход, реабилитирующий сопоставление конкретного фильма и текста, но не встраивающий их в структуру ценностной оппозиции. Исследователи, настаивающие на важности сопоставления художественного текста и его адаптации, подчеркивают, что такое сопоставление не означает отношения «оригинал – копия», «причина – следствие». Важны причины, по которым режиссер, ориентирующийся именно на модус сопоставления текста и фильма, производит те или иные сдвиги при визуальном трансфере, – и именно этот вопрос я исследую на материале постсоветских экранизаций.
Пытаясь ограничить поле исследования, Дадли Эндрю напоминает, что большинство фильмов являются адаптациями более или менее известных литературных текстов, и предлагает ограничиться теми случаями, когда сам процесс адаптации выдвинут на первый план, где оригинал представляется режиссеру важным источником – или целью. Рассматривая отношения между такими адаптациями и их литературными источниками, он выделяет три способа взаимодействия фильма и текста: заимствование, пересечение и точный перенос. При заимствовании, утверждает он, происходит двусторонний обмен между текстом, который благодаря популяризации получает нового читателя, – и фильмом, который взамен на это получает престиж за счет ассоциаций с литературным каноном. Таким образом, Эндрю возвращает нас от идеи предполагаемой (публикой и часто самими режиссерами) неполноценности адаптации по сравнению с литературным источником – к необходимости реабилитировать ее как серьезную форму, обеспечивающую посредничество между разными культурными регистрами.
Имельда Велехан переосмысливает эту дискуссию, поставив экранизацию в центр отношений между высокой и массовой культурой и продемонстрировав ее связь с приобретением «культурного капитала» (в терминологии Бурдье[37]). Велехан полагает, однако, что такой подход помещает чтение литературных произведений в ту же критическую область, что и потребление откровенно коммерческих текстов, – и редуцирует индивидуальные особенности самих адаптаций.
Хатчингс и Верницки находят ее подход очень продуктивным – как и связанную с ним «модель наследования» (heritage model), предложенную Робертом Гиддингсом и Эрикой Шин. Эти авторы, которые рассматривают роль жанра адаптации в конструировании национальной идентичности в эпоху глобализации[38], предупреждают исследователей против сведения экранизации к функции выразителя национальной идеологии или идентичности – и призывают не игнорировать ее специфичность как культурной формы. Этим важным предупреждением я также руководствовалась в ходе работы над этим исследованием.
Один основной подход, характерный для 2000‐х, выделить труднее: развиваются и медиаспецифичные, и интертекстуальные теории. В целом в это время расширяются представления как об объекте адаптации, так и об адаптирующих медиа: Линда Хатчеон рассматривает в качестве таких медиа, в частности, балет, оперу и видеоигры – и задает тем самым новое измерение провокационному утверждению Джорджа Блустоуна о невозможности сравнения архитектуры и балета[39]. Распространяются идеологизированные исследования, обсуждающие жанр экранизации в терминах культурного капитала и/или формирования национальной идентичности. Так, по наблюдению Терри Иглтона, современные государства опираются на визуальные образы в целях консолидации власти: «для того, чтобы люди полюбили закон, необходимы вещественные образы, в которые он будет воплощен»[40]. Поскольку универсальность разума уступает чувственному восприятию, идеология, как показывает Иглтон, стремится проникнуть в каждое из индивидуальных воплощений и убедить нас в том, что именно оно в наибольшей полноте воплощает ее смысл. Экранизация, таким образом, а) может популяризировать трудные, но идеологически важные тексты и б) предлагает микрокосм такого действия: трансляция идеологических абстракций воспроизводится процессом перевода вербального текста в кинообраз[41].
Продолжают развиваться теории взаимоотношения слова и визуального образа, причем область вербального не ограничивается литературой, а визуального – кинематографом. Так, Уильям Митчелл считает, что конфликты на границе слова и образа двигают вперед культуру. Поэтому напряженность между визуальной и вербальной репрезентациями неотделима от борьбы в культурной политике и политической культуре: именно это демонстрирует случай сталинских экранизаций русской классики XIX века[42].
Интертекстуальный подход предлагает исследовать адаптации в более широкой парадигме взаимоотношений литературы и экранных искусств и ведет поиски нового продуктивного фокуса анализа. Беллен Вилласур, в частности, предлагает применять категорию «литературного фильма», – более широкую, чем адаптация[43]. Категория эта использует якобсоновское определение литературности как «языка, требующего к себе внимания» и ставит вопрос о соотношении литературной и кинематографической интертекстуальности. Вилласур показывает, как в литературных фильмах происходит многоуровневая игра между центральным интертекстом и модусами субъективности, вписанными в мизансцены фильма. Хатчингс и Верницки считают такой подход особенно ценным для анализа русского кино, где литературные тени витают и в фильмах, которые обычно не классифицируются в качестве экранизаций[44]. Наталья Арлаускайте применяет его на практике, демонстрируя, как режиссер конструирует модусы субъективности на примере экранизации Всеволодом Пудовкиным (1926) «Матери» Горького, в которой обнаруживаются отсутствующие у самого Горького аллюзии на Толстого.
Сара Кардвелл[45] также предлагает расширить фокус отношений «фильм – текст», рассматривая и то и другое как постепенное развитие метатекста – важной истории или мифа, который пересказывается, реинтерпретируется – и значения которого подвержены постоянной трансформации. В этом случае не возникает вопроса о подчинении кино литературе или наоборот: оба оказываются вариантами развития единого бесконечного метатекста. Хатчингс и Верницки справедливо критикуют ограниченность концепции Кардвелл за то, что она заменяет одну иерархию (литературного текста) другой (метатекста), игнорируя при этом основополагающую для многих экранизаций динамику диалога между литературой и фильмом. Ценность же предложения Кардвелл они видят в том, что в рамках ее концепции происходит не просто транспонирование текста в фильм, а более сложный процесс, в ходе которого экранизация пропускает литературный оригинал через второстепенный текст или набор текстов.
Таким образом, западные экранизации романов ужасов XIX века, таких как «Франкенштейн» и «Дракула», как и советские адаптации соцреалистических текстов, подобных «Чапаеву», фильтруют литературный оригинал через облако мифов, окружающих центральные фигуры. Многие из этих мифов порождены не литературными оригиналами, но предшествующими экранизациями нарративов, существующих в массовом сознании[46].
Хатчингс и Верницки противопоставляют идее бесконечных вариаций одного уртекста, предложенной Кардвелл, другую – идею трехсторонней борьбы за репрезентирующее господство между фильмом, легендой и текстом[47].
Развивая новые направления интертекстуального подхода, Камилла Эллиотт[48] предлагает для понимания адаптации как двустороннего процесса, в котором фильм преображает роман и сам преображается им, важную метафору зеркала. Адаптация – взаимная, перевернутая трансформация; циклический процесс трансформации можно сравнить с работой памяти, когда момент припоминания изменяет само воспоминание. Простое возвращение назад невозможно, так как экранизация изменила книгу. В этом подходе важно то, что и фильм, и текст являются не пассивными, но активными акторами, формирующими субъектность читателя и зрителя.
Настоящее исследование перекликается в подходе и с Кардвелл, и с Эллиотт. В подходе Эллиотт мне близка идея субъектности читателя и зрителя, а также активности фильма и текста. Не редуцируя важности диалога между конкретным произведением и основанным на нем фильмом, я, как и Кардвелл, рассматриваю сложный полилог, образуемый голосами различных – и реагирующих друг на друга – адаптаций.
Наконец, в 2010‐е годы особенно остро встает проблема адаптации в связи с новыми цифровыми медиа и диктуемыми этими медиа режимами зрительской вовлеченности. Линда Хатчеон и Шавон О’Флинн в предисловии к новому изданию известной книги Хатчеон «Теория адаптации» указывают на важность изучения адаптаций в контексте партисипаторной культуры[49].
В России развитие теории адаптации до последних трех десятилетий было в основном изолировано от западных моделей, которые доходили до отечественных исследователей с большим опозданием. Из важных работ в этой области можно назвать сборник «Книга спорит с фильмом», рассматривающий экранные адаптации русской классики в разных ракурсах: с точки зрения режиссеров, литературоведов и киноведов[50]. При том, что второй, интертекстуальный, этап многим обязан теории Бахтина о диалогизме, продуктивно приложенной к адаптации, в России преобладающим подходом долгое время оставался – и сейчас остается – медийно-специфический, основанный на метафоре перевода, причем часто в архаическом изводе, утверждающем безусловное превосходство литературы над ее несовершенным экранным воплощением. Отечественным исследователям и сейчас приходится утверждать – не только для массового зрителя и читателя, но и для специалиста – ограниченную пригодность представлений об отношениях «источник – перевод» или «оригинал – копия» при оценке адаптаций. Олег Аронсон, в частности, апеллирует к представлению о «непереводимости»: то в литературном тексте, что не может быть переведено на другой язык, должно быть переписано заново[51]. Аронсон, таким образом, по-своему переоткрывает новый этап теории перевода в духе Гидеона Тури. И это переоткрытие особенно актуально в российском контексте, поскольку фоном для него являются работы, эксплуатирующие бинарную схему и утверждающие литературоцентризм как режиссерскую и исследовательскую позицию (Людмила Сараскина[52]), рассматривая экранную адаптацию как бледную несовершенную копию литературного оригинала (Валерий Мильдон[53]).
Исследование Людмилы Сараскиной, по материалу близкое к моему, принципиально отличается от него, с одной стороны, задачей, а с другой – и методологией, о которой свидетельствует само название книги Сараскиной: «Литературная классика в соблазне экранизаций». Автор делает широкий обзор постсоветских адаптаций, исходя из того, что они вторичны по отношению к литературе, и ставит вопрос о праве режиссеров на искажение литературного текста и об их моральной ответственности. Поскольку Сараскина исходит из того, что смысл произведения имманентен ему, заложен в тексте, – в качестве единственной достойной цели адаптации она видит передачу этого смысла. Иронические, деконструирующие адаптации трактуются здесь как соблазн режиссерского самомнения и недостаток уважительного внимания к произведению. Исследование при этом не ставит вопросов о том, каковы могут быть цели таких трансформаций и симптомами каких общественных процессов они являются. Анализируя особенности бытования современных адаптаций, Сараскина справедливо отмечает возрастающую роль критики, создаваемой не профессионалами, а зрителями, – и приводит примеры таких непрофессиональных отзывов на адаптации, не подвергая, однако, анализу весь существующий спектр мнений, а приводя те, которые совпадают с ее собственными оценками.
Ирина Каспэ, Борис Дубин и Наталья Самутина рассматривают адаптации в контексте социологии культуры[54]. Для моего исследования были особенно важны работы Ирины Каспэ, предметом внимания которой являются режиссерские стратегии, формирующие способы восприятия классики и задающие режимы смотрения. Каспэ исследует знаки литературности в экранных адаптациях и ставит принципиальный вопрос о том, каков именно рассчитанный на узнавание образ текста, который режиссеры считают нужным транслировать аудитории.
Отдельные адаптации русской классики постоянно оказываются предметом внимания критиков и дают повод к общественным дискуссиям о месте литературы и кино в современном обществе. Систематических исследований именно современных российских адаптаций, однако, при этом очень мало. По-английски были опубликованы важные монографии и сборники, посвященные экранным интерпретациям произведений тех или иных писателей: «Достоевский и советский фильм: Видения демонического реализма» Н. М. Лэри[55], из более свежих – «Толстой на экране» под редакцией Лорны Фицсиммонсис[56]. Книга Александра Барри «Мультимедийный Достоевский: Транспозиция романов в оперу, фильм и драму»[57] примечательна тем, что здесь рассматриваются не только кинематографические адаптации, но охвачены и другие виды искусства. Следует особо упомянуть два сборника статей с исследованием отдельных адаптаций (case studies) на русском материале: уже упоминавшуюся здесь книгу «Русские и советские киноадаптации литературы (1900–2001)»[58] под редакцией Стивена Хатчингса и Аннат Верницки, а также «Пересечение границ: от русской литературы к фильму» под редакцией Александра Барри[59]. Первый сборник включает разборы советских и постсоветских киноадаптаций литературы, отражающих разные стадии развития и разные аспекты национального русского и советского мифов. Второй исследует проблему культурного трансфера в адаптациях русской литературы мировым кинематографом. Здесь в фокусе оказываются трансформации, возникающие при пересечении границ между различными культурами, жанрами и историческими эпохами.
Задаваясь, как и я, вопросом о том, почему те или иные произведения сопровождаются шлейфом экранизаций, Барри предлагает текстологическое объяснение и вводит понятие «транспозиционной открытости». По мнению исследователя, сама структура текста, то есть наличие в нем интертекстуальных пересечений с другими литературными произведениями, а также наличие у текста нелинейной истории создания, предполагающей существование его разных вариантах, – все это свидетельствует о том, что текст открыт переписыванию. Идеи Барри интересны и значимы для анализа адаптаций, но применение их ограничено: его подход предполагает, что история текста служит основанием для верного предсказания «экранизируемости» этого текста. Любое сложное художественное произведение, однако, в той или иной степени обладает такой транспозиционной открытостью – но ее оказывается недостаточно для того, чтобы объяснить, почему одни открытые тексты постоянно адаптируются, а другие – нет.
22
Bluestone G. Novels into Film. Baltimore: Johns Hopkins UP, 1957.
23
The Oxford Handbook of Adaptation Studies / T. Leitch (ed.). New York: Oxford UP, 2017. P. 5.
24
Этот обзор опирается на периодизации Томаса Лейча (Указ. соч.), Мирейи Арагэй (Books in Motion: Adaptations, Intertextuality, Authorship / M. Aragay (ed.). Amsterdam; New York: Rodopi, 2005) и Стивена Хатчингса и Анат Верницки (Hutchings S., Vernitski A. Introduction: The ekranizatsiia in Russian Culture / Russian and Soviet Film Adaptations of Literature, 1900–2001. London; New York: Routledge Curzon, 2004. P. 1–24). Список этот неполон, и следует иметь в виду, что ни с одной из упомянутых периодизаций мы не совпадаем полностью.
25
Bazin A. Adaptation, or the Cinema as Digest // Film Adaptation / J. Naremore (ed.), A. Piette, C. Bert (trans.). London: Athlone Press, 2000. P. 19–28. См. также оригинальную публикацию: Bazin A. L’adaptation ou le cinéma comme Digeste // Esprit. 1948. Vol. 16. № 146 (Juillet). P. 32–40.
26
Ibid.
27
Chatman S. What Novels Can Do That Films Can’t (and Vice Versa) // Critical Inquiry. On Narrative. 1980. Vol. 7. № 1. P. 121–140.
28
McFarlane B. Novel to Film: An Introduction to the Theory of Adaptation. Oxford: Clarendon, 1996.
29
Лотман Ю. М. О природе искусства // Лотман Ю. М. Чему учатся люди: Статьи и заметки. М.: Рудомино, 2010. С. 115–116.
30
Stam R. Literature through Film: Realism, Magic, and the Art of Adaptation. Malden: Blackwell, 2004; A Companion to Literature and Film / R. Stam, A. Raengo (eds.). Malden: Blackwell, 2004; Literature and Film: A Guide to the Theory and Practice of Film Adaptation / R. Stam, A. Raengo (eds.). Malden: Blackwell, 2005.
31
Film Adaptation / J. Naremore (ed.). New Brunswick: Rutgers UP, 2000.
32
Venuti L. The Translator’s Invisibility. London; New York: Routledge, 1995. P. 1–42.
33
Mireia A. Reflection to Refraction: Adaptation Studies Then and Now // Books in Motion: Adaptations, Intertextuality, Authorship / A. Mireia (ed.). Amsterdam; New York: Rodopi, 2005. P. 28.
34
Dudley A. The Unauthorized Auteur Today // Film Theory Goes to the Movies / J. Collins, et al. (eds.). New York; London: Routledge, 1993. P. 83.
35
Ibid. P. 77.
36
Lehmann C. Shakespeare Remains: Theater to Film, Early Modern to Postmodern. Ithaka; London: Cornell United Press, 2001. P. 10.
37
Whelehan I. Adaptations. The Contemporary Dilemma // Adaptations: From Text to Screen, Screen to Text / D. Cartmell, I. Whelehan (eds.). London; New York: Routledge, 1999. P. 3–21.
38
The Classic Novel: From Page to Screen / R. Giddings, E. Sheen (eds.). Manchester: Manchester UP, 2000.
39
Bluestone G. Novels into Film. Baltimore: Johns Hopkins UP, 1957.
40
Eagleton T. Signs, sense and sentiment // The Times Higher Educational Supplement. 27 April, 2001.
41
Эта концепция хорошо описывает политику нынешних официальных идеологов, а режиссеры сознательно или бессознательно транслируют ее.
42
Mitchell W. J. T. Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation. Chicago; London: Chicago UP, 1994.
43
Villasur B. V. Classic adaptations, modern reinventions: reading the image in the contemporary theory film // Screen. 2002. № 47 (1) (Spring). P. 5–19.
44
Ibid. P. 6.
45
Cardwell S. Adaptations Revisited: Television and the Classic Novel. Manchester: Manchester UP, 2002. Именно такой подход к адаптациям применяет в своей книге Марсия Моррис.
46
Hutchings S., Vernitski A. Op. cit. P. 6.
47
Ibid. P. 6–7.
48
Elliott K. Rethinking the Novel/Film Debate. Cambridge: Cambridge UP, 2003.
49
Hutcheon L., O’Flynn S. A Theory of Adaptation. 2nd ed. New York: Routledge, 2013.
50
Книга спорит с фильмом. Сборник «Мосфильм» – VII / Под ред. В. С. Беляева и др. М.: Искусство, 1973.
51
Аронсон О. В. Коммуникативный образ. Кино. Литература. Философия. М.: Новое литературное обозрение, 2007.
52
Сараскина Л. А. Литературная классика в соблазне экранизаций: Столетие перевоплощений. М.: Прогресс-Традиция, 2018.
53
Мильдон В. И. Другой Лаокоон, или О границах кино и литературы. М.: РОССПЭН, 2007. На ограниченность подхода Мильдона справедливо указал Николай Хренов, см.: Хренов Н. Заметки на полях «Другого Лаокоона» // Киноведческие записки. 2007. № 85. С. 341–345.
54
Каспэ И. М. Классика как коллективный опыт: литература и телесериалы // Классика и классики в социальном и гуманитарном знании. М.: Новое литературное обозрение, 2009. С. 452–489; Самутина Н. В. Cult Camp Classics: специфика нормативности и стратегии зрительского восприятия в кинематографе // Самутина Н. В. Указ. соч. С. 490–531; Дубин Б. В. Классика, после и рядом: Социологические очерки о литературе и культуре. М.: Новое литературное обозрение, 2010.
55
Lary N. M. Dostoevsky and Soviet Film: Visions of Demonic Realism. Ithaca: Cornel UP, 1986.
56
Tolstoy on Screen / Eds. L. Fitzsimmons, M. Denner. Evanston: Northwestern UP, 2015.
57
Burry A. Multi-mediated Dostoevsky: Transposing Operas into Opera, Film, and Drama. Evanston, IL: Northwestern UP, 2011.
58
Hutchings S., Vernitski A. Op. cit.
59
Border Crossing: Russian Literature into Film // A. Burry, F. H. White (eds.). Edinburgh: Edinburgh UP, 2016.