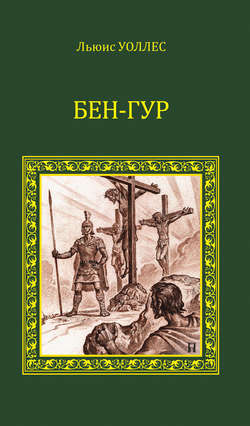Читать книгу Бен-Гур - Льюис Уоллес, Lewis Wallace - Страница 19
Книга вторая
Глава II. Друзья детства
ОглавлениеПосле сказанного в предыдущей главе можно пригласить читателя заглянуть в один из дворцовых садов на Сионской горе. Был полдень середины июня, когда жара бывает особенно сильна.
Сад со всех сторон окружался строениями, местами в два этажа, с верандами, покрывавшими тенью двери и окна нижнего этажа; выступавшие галереи, защищенные балюстрадами, украшали и охраняли верхний этаж. Там и сям эти здания переходили в красивые колоннады, не задерживавшие свободно разгуливавшего между ними ветра и позволявшие видеть сквозь них другие части строения, благодаря чему еще резче выступала их собственная грандиозность и красота. Сад представлял также очень приятное зрелище: аллеи, зеленые поляны, кустарники, высокие деревья – редкие образцы пальм, перемешивались с абрикосовыми деревьями, рожковыми, орешником. От середины почва покато спускалась по всем направлениям; в центре помещался резервуар, или глубокий мраморный бассейн; в нескольких местах бассейна были устроены желобки, чрез которые вода спускалась в канавки, шедшие по краям дорожек сада, – хитрая выдумка, чтобы избавиться от засухи, которая здесь давала себя знать более, нежели в других местах страны.
Недалеко от фонтана был маленький пруд с чистой водой, осененный тростником и олеандрами, растущими на Иордане сплошь до Мертвого моря. Между группой растений сидели два юноши, серьезно разговаривая, не обращая внимания на палившее их солнце, при полном отсутствии малейшего ветерка. Одному юноше было лет 19, другому 17. Оба были красивы и с первого взгляда их можно было принять за братьев. У обоих были черные глаза, черные волосы и сильно загоревшие лица; они сидели, и разница в росте казалась так же незначительной, как и разница лет.
У старшего голова была непокрыта; широкая туника, спускавшаяся до колен, составляла весь его костюм; на ногах сандалии. Под ним был разостлан светло-голубой плащ. Туника оставляла открытыми руки и ноги; они были смуглы, как и его лицо; тем не менее грация в манерах, тонкие черты лица, голос – все свидетельствовало о его высоком положении.
Серая туника из тончайшей шерстяной материи с красной опушкой на воротнике, рукавах и полах, опоясанная в талии шелковым шнурком с кистями, указывала на его римское происхождение. И если он по временам в разговоре смотрел свысока на своего товарища и обращался к нему, как к низшему, то это объяснялось тем, что он происходил из семьи, считавшейся благородной даже в Риме, – обстоятельство, оправдывавшее в том веке всякого рода заносчивость. В эпоху страшных войн между первым цезарем и его могущественными врагами один из Мессал был другом Брута. После Филиппа, не жертвуя своей честью, он и победитель заключили мир. Позднее, когда Октавий домогался императорской короны, Мессала поддерживал его. Сделавшись императором Августом, Октавий вспомнил услугу, оказанную ему Мессалом, и окружил почестями все его семейство. Когда же Иудея была превращена в провинцию, он послал сына своего старого клиента или приверженца в Иерусалим, вверил ему сбор и управление налогами, собираемыми в стране; в этой же должности оставался потом его сын, занимая дворец вместе с первосвященником. Только что описанный юноша был сын Мессалы, ни на минуту не забывавший отношений его дедушки к великим римлянам.
Собеседник Мессалы был по внешности слабее; его платье было из тонкого белого полотна, какое вообще носили в Иерусалиме. Голову его покрывала ткань, поддерживаемая желтым шнуром и надетая так, что спадала со лба на затылок и спускалась на плечи. Наблюдатель, искусный в распознавании рас, обративши больше свое внимание на его черты лица, нежели на костюм, тотчас же мог признать в нем еврейский тип. Лоб римлянина был высок и узок; нос острый, орлиный; губы тонкие, прямые; глаза смотрели холодно из-под бровей. Напротив, у израильтянина лоб был низок и широк; длинный нос с расширенными ноздрями; верхняя губа, немного выдававшаяся над низшей, была коротка и изогнута в изящный угол, подобно луку Купидона; все это в связи с круглым подбородком, глазами на выкате и румяными овальными щеками придавало его красивому лицу свойственные его расе выражения мягкости и силы. Красота римлянина была строгая и целомудренная; красота еврея – роскошная и сладострастная.
– Неужели новый прокуратор прибудет завтра? – Вопрос задал младший из друзей по-гречески; как это ни странно, но греческий язык получал в то время все более широкое распространение в высших кружках. Иудеи переходили из дворца в лагерь, а оттуда – неизвестно как – в храм, в самое святилище, не допускавшее ничего языческого.
– Да, завтра, – ответил Мессала.
– Кто вам сказал?
– Я слышал, как Измаил, новый правитель во дворце, – вы называете его первосвященником, – говорил это моему отцу прошедшую ночь.
– Согласен, новость заслуживала бы большего доверия, если бы она исходила от египтянина, – египтяне позабыли, что такое правда, – или хотя бы от идумеянина, – эти никогда не знали правды; но чтобы вас совершенно уверить – я видел сегодня поутру центуриона из башни, и он рассказывал, что приготовления к приему продолжаются: оружейные мастера чистят шлемы и щиты, золотят опять орлы и шары; комнаты, давно уже опустевшие, приводятся в порядок, проветриваются, – вероятно, ввиду увеличения гарнизона корпусом телохранителей высокой особы.
Нет возможности вполне описать тон ответа, – тонкие оттенки выражения всегда ускользают от власти пера, и читателю может помочь только воображение; а для этого он должен вспомнить, что вежливость, как свойство римского ума, почти исчезла, или, вернее, стала считаться неприменимой. Старая религия почти перестала иметь смысл и оставалась не более как привычкой известным образом рассуждать и выражаться; этой привычке покровительствовали главным образом жрецы, считавшие службу в храме выгодной, и поэты, которые в своих стихах не могли обойтись без любимых богов, – таковы были певцы того века! Философия заступала место религии, а сатира до такой степени замещала почтительность, что, по мнению латинистов, ее можно было встретить в любой речи, в каждой мелкой колкости при разговоре, как приправа к мясу, как аромат в вине. Молодой Мессала, воспитывавшийся в Риме и только что возвратившийся оттуда, усвоил все эти привычки и манеры; едва заметное подергивание нижней веки, сопровождаемое решительным раздуванием ноздрей, – были лучшим средством придать себе вид полного равнодушия ко всему; особенные же паузы в разговоре как бы давали время слушателю хорошенько усвоить себе счастливую мысль говорившего или понять соль злой эпиграммы.
Такая пауза последовала и в только что приведенном ответе, после намеков на египтянина и идумеянина. Краска, покрывшая щеки еврейского юноши, сделалась ярче: может быть, он и не слыхал последних слов, ибо оставался спокойным, глядя рассеянно в глубину пруда.
– Помните, мы в этом саду прощались. «Мир с вами» – были ваши последние слова. «Да сохранят вас боги», – сказал я. Сколько лет прошло с тех пор?
– Пять! – отвечал еврей, глядя в воду.
– Да, вам есть за что благодарить… кого? – Ну хоть богов, все равно. Вы стали красавцем, греки назвали бы вас прекрасным во цвете молодости! Если бы Юпитер нуждался в другом Ганимеде, какой бы прекрасный виночерпий вышел из вас. Скажите мне, о мой Иуда, почему вас так интересует приезд прокуратора?
Иуда устремил свои большие глаза на вопрошавшего. Взгляд его был серьезен и задумчив; встретившись с глазами римлянина, он отвечал:
– Да, пять лет я вспоминаю минуту разлуки; вы отправлялись в Рим, я видел, как вы волновались, я и сам плакал, потому что любил вас. Годы прошли – и вы вернулись ко мне возмужалый и величественный. Я не шучу – и все-таки… и все-таки мне хотелось бы видеть в вас того Мессалу, с каким я тогда расставался…
Тонкие ноздри Мессалы насмешливо вздрогнули, и он протяжно сказал:
– Нет, нет, вы не Ганимед, мой Иуда, а оракул. Несколько уроков моего учителя риторики, живущего близ Форума, необходимы для вас. Я дам вам к нему письмо, если вы благоразумно согласитесь послушаться совета, который, помните, я вам уже давал. Не большая практика в искусстве облекать все в тайну – и дельфийцы примут вас за самого Апполона. При первых звуках вашего божественного голоса Пиоия снизойдет к вам со своим венком. Но шутки в сторону, чем же непохож я на прежнего Мессалу? Я однажды слышал величайшего в мире логика, он учил искусству спорить и одно из его положений гласило: пойми своего противника прежде, чем отвечать ему. Дайте же мне возможность понять вас.
Юноша покраснел под наглым взглядом, устремленным на него, но все-таки твердо отвечал:
– Я вижу, вы хорошо воспользовались представившимся вам случаем и хорошо переняли от своих учителей немало знаний и уменье выражаться. Вы говорите с развязностью учителя, но в ваших словах скрывается насмешка. В характере Мессалы не было яда. Он ни за что на свете не оскорбил бы чувства дружбы.
Римлянин улыбнулся, как бы польщенный, и поднял еще выше свою патрицианскую голову.
– О, мой торжественный Иуда, мы ведь не в Додоне, не у Пиоии. Перестаньте изображать оракула, будьте безыскусственны. Но чем я вас оскорбил?
Иуда глубоко вздохнул и, теребя шнур пояса, сказал:
– В течение пяти лет и я кое-что узнал. Гиллель, может быть, не сравняется с логиком, которого вы слышали, Симеон и Шамай, без сомнения, ниже вашего учителя близ Форума. Их учение не выходит за пределы дозволенных путей, и слушатели обогащают свой ум познанием Бога, закона и истории израильского народа; следствием этого являются любовь и уважение ко всему, имеющее непосредственное к этому отношение. Посещая высшую коллегию и изучая слышанное там, я понял, что Иудея вовсе не то, что хотят из нее сделать; я узнал, какая глубокая пропасть лежит между Иудеей, независимым царством, и Иудеей, маленькой провинцией, и был бы гаже, подлее даже самаритянина, если бы не принимал близко к сердцу унижение своей родины. Измаил – не законный первосвященник, и, пока жив благородный Анна, он не имеет права быть первосвященником, а между тем он – левит, один из тех посвященных, который по нашей вере служит преемственно тысячи лет Господу Богу. Его…
Мессала, язвительно смеясь, прервал его:
– О, я вас теперь понимаю! Вы говорите, что Измаил – похититель власти, и вместе с тем считаете ядовитым уколом, когда придают больше вероятия словам идумеянина, чем Измаилу. Клянусь пьяным сыном Семелы, вот что значит быть евреем! Люди, вещи, даже небо и земля изменяются, еврей же никогда. Он не двигается ни взад, ни вперед; он остается такой же, как и его первый прародитель. Я начерчу вам на этом песке круг, вот он. Теперь скажите мне, не жизнь ли это еврея? Снова все то же и то же. Вот Авраам, вот там Исаак и Иаков, а посреди Бог. Клянусь громовержцем, круг этот еще слишком велик! Я его переделаю. – Он нагнулся, уперся большим пальцем руки в песок, остальными же обвел около него круг. – Глядите, место, где находился большой палец, – храм; линия, проведенная остальными пальцами, – Иудея. Неужели же все вне этой черты не заслуживает никакого внимания? Искусства!.. Ирод был строителем, его за это прокляли. Живопись, скульптура!.. На них и смотреть считается грехом. Поэзию вы отсылаете к своим алтарям. И где вне синагог упражняются у вас в красноречии? На войне все завоеванное в шесть дней вы теряете в седьмой. Вот ваша жизнь и ее границы! Кто же скажет после того, что я не прав, когда смеюсь над вами? Если ваш Бог довольствуется поклонением такого народа, то что Он значит в сравнении с нашим римским Юпитером, ниспосылающим нам своих орлов, дабы мы могли захватить весь мир в свои объятия? Гиллель, Симеон, Шамай, Абталионь, – что они рядом с теми, которые учат, что нужно знать все, что может быть познано?
Еврей вскочил. Лицо его сильно разгорелось.
– Нет, нет, сидите, Иуда, сидите! – воскликнул Мессала, протягивая руку.
– Вы смеетесь надо мной.
– Выслушайте меня еще немного. Сейчас явится ко мне, как всегда, – и римлянин насмешливо улыбнулся, – Юпитер со всей своей семьей греческой и латинской, и тогда конец серьезному разговору. Я вполне ценю вашу доброту и ваше желание прийти ко мне из старого дома ваших отцов, чтобы приветствовать мое возвращение и возобновить, если можно, дружбу нашего детства. Иди, – сказал мне учитель на последней лекции, – иди и, чтоб жизнь твоя была славна, помни, что Марс царит, а Эрот прозрел. Он разумел, что любовь – ничто, а война – все. Таков Рим. Брак – первая ступень к разводу. Добродетель – драгоценный перл торговца. Клеопатра, умирая, завещала свои качества и была отомщена; в каждом римском доме у нее есть последовательницы. И весь свет идет по тому же пути; что же касается до нашего будущего, то долой Эрота и да здравствует Марс! Я буду солдатом, а вы, мой Иуда, мне жаль вас, чем можете вы быть?
Еврей подошел ближе к пруду; Мессала, растягивая еще более слова, продолжал:
– Да, мне жаль вас, мой прелестный Иуда. Из школы в синагогу, из синагоги в храм, а потом – о, венец славы! – место в синедрионе. Жизнь без всяких приключений, треволнений. Да помогут вам боги! Но я…
Иуда взглянул на него и заметил румянец гордости, разлившийся на его высокомерном лице.
– Что касается до меня, то свет еще не весь покорен. На морях есть острова, на которые еще и не наступала человеческая нога. На севере народы еще не посещены нами. Остается еще довершить поход Александра на далекий Восток. Видите ли, какие перспективы представляются римлянину!
И затем продолжал он, растягивая снова слова:
– Поход в Африку, затем – в Скифию, – а там легион! Многие там заканчивают свою карьеру, но я на этом не помирюсь. Клянусь Юпитером, вот блестящая мысль! – Сменяю легион на префектуру. Представьте себе жить в Риме с деньгами, – круглый год деньги, – вино, женщины, удовольствия: пиры с поэтами, интриги при дворе, игры в кости. Такую жизнь можно только устроить себе при помощи богатой префектуры, и ее-то я и добьюсь. О, мой Иуда! Здесь Сирия. Иудея богата, Антиохия – столица богов. Я наследую Цирению, – а вы разделите мое счастье.
Софисты и учителя риторики, дававшие тон общественному мнению Рима и почти всецело монополизировавшие дело воспитания патрицианской молодежи, может быть, отнеслись бы с одобрением к сказанному Мессалой, потому что все это было в их духе; но для юного еврея все это было ново, не похоже на привычные торжественные разговоры и рассуждения. К тому же он принадлежал к племени, законы, обычаи, приемы мышления которого воспрещали юмор и сатиру; поэтому очень естественно, что, слушая друга, его взволновали самые разнообразные чувства: то он негодовал, то не знал, как отнестись к слышанному. Надменный тон вначале оскорблял его, затем, все более раздражая, причинял наконец жгучую боль. Такое чувство обыкновенно разрешается гневом, и последний был вызван Мессалой другим путем. У евреев времен Ирода патриотизм был дикой страстью, едва скрываемой под маской добродушия; он был так неразлучно слит с их историей, религией и Богом, что вспыхивал при малейшей насмешке над ними самими. Поэтому не преувеличивая можно сказать, что слова Мессалы вплоть до последнего перерыва имели действие на слушателя подобно изысканнейшей пытке. Когда он наконец остановился, Иуда с принужденной улыбкой сказал:
– Я слышал, что немногие способны издеваться над своей судьбой; и вы, о мой Мессала, убедили меня, что я не принадлежу к числу таких людей.
Римлянин, внимательно взглянув на него, возразил:
– Почему бы истине не заключаться и в шутке, как и в притче? Великая Фульвия отправилась однажды на рыбную ловлю и наловила больше всех. Ей объяснили это тем, что кончик ее крючка был вызолочен.
– Так вы не шутили?
– Я вижу, мой Иуда, что слишком мало предложил вам! – быстро прервал римлянин, причем глаза его сверкали. – Когда я буду префектом и Иудея обогатит меня, я сделаю вас первосвященником.
Еврей гневно отвернулся.
– Не покидайте меня, – сказал Мессала.
Тот в нерешительности остановился.
– О боги, Иуда, как сильно печет солнце! – вскричал патриций, замечая его нерешительность.
Иуда холодно отвечал:
– Нам лучше расстаться. Я сожалею, что пришел. Я рассчитывал встретить друга, а нахожу…
– Римлянина! – быстро добавил Мессала.
Кулаки еврея сжались, но, сдержав себя снова, он отвернулся и пошел. Мессала встал, взял со скамьи свой плащ, набросил его себе на плечо и последовал за Иудой. Поравнявшись с ним, он положил ему руку на плечо и пошел рядом.
– Вот дорожка, по которой мы гуляли детьми, обнявшись, как теперь. Дойдемте же так до ворот.
Мессала, очевидно, старался быть серьезным и ласковым, хотя не мог отделаться от привычного насмешливого тона. Иуда не протестовал против фамильярности.
– Вы мальчик, а я уже муж, позвольте же мне говорить вам, как подобает мужу.
Самодовольство его было восхитительно. Ментор, читавший нравоучения Телемаку, не мог бы быть развязнее.
– Верите ли вы в Па́рок? Да, я забыл, ведь вы саддукей. Ессеи – разумный народ, те веруют в этих сестер. И я тоже. Вечно эти три сестры мешают нам осуществить наши желания. Я сижу и мечтаю, что совершу то-то и то-то. И вот как раз в тот момент, когда я могу уже схватить мир в свои руки, позади меня раздается скрип ножниц. Я оглядываюсь и вижу ее, эту проклятую Атропос! Но, мой Иуда, почему мысль быть преемником Цирениуса вас так разгневала? Вы полагаете, что я мечтаю обогатиться, ограбив Иудею. Но, если и так, ведь кто-нибудь из римлян будет же так наживаться. Почему же не мне?
Иуда замедлил свои шаги.
– И другие народы до римлян властвовали над Иудеей, – сказал он, подняв руку. – Где они теперь, Мессала? Иудея пережила их всех, – она переживет и Рим.
Мессала начал снова, протягивая слова:
– Итак, помимо ессеев, у Парок есть верующие. Поздравляю, Иуда, поздравляю с обращением в новую веру.
– Нет, Мессала, я не принадлежу к ним. Вера моя зиждется на скале, служившей основанием веры отцов моих, еще гораздо раньше Авраама, на завете Господа Бога Израиля.
– Слишком странно, мой Иуда. Как был бы поражен мой учитель, прояви я такую горячность в его присутствии; я думал было поговорить с вами еще кое о чем, но опасаюсь.
Они прошли еще несколько шагов, и римлянин снова заговорил.
– Теперь, я думаю, вы можете выслушать меня, тем более что я буду говорить о вас. Я готов быть тебе полезен, о прекрасный Ганимед! Готов служить тебе от всей души, потому что, насколько могу, я люблю тебя; я сказал уже тебе, что хочу быть воином, – почему бы и тебе не быть тем же? почему бы не сделать тебе шага из того ограниченного круга, в пределах которого, как я показал, по вашим законам и обычаям заключается все лучшее в жизни?
Иуда не отвечал.
– Кто самые мудрые люди в наши дни? – продолжал Мессала. – Конечно, не те, кто губит годы в спорах о мертвых вещах, о Ваале, Юпитере и Иегове, о философии или о религии. Назови мне хоть одно великое имя, Иуда, в Риме, Египте, на Востоке или даже здесь, в Иерусалиме, и клянусь Плутоном, ты непременно назовешь человека, составившего свою славу из живого материала, считая священным только то, что содействовало достижению его цели, не пренебрегая при этом ничем. Возьми Ирода, Макавеев, первого и второго царей. Подражай им и начинай немедленно. Рим протягивает тебе руку и готов помочь тебе, как и идумеянину Антипатру.
Еврейский юноша дрожал от бешенства. Ворота сада были близки, и он торопился уйти скорее.
– О Рим, Рим! – шептал он.
– Будь же мудр, – продолжал Мессала, – отбрось в сторону глупости Моисея и преданий; смотри на вещи прямо; взгляни Паркам в лицо, и они скажут тебе, что Рим – вселенная. Вопроси их об Иудее и они ответят тебе, что она не более того, что захочет сделать из нее Рим.
Теперь они подошли к воротам. Иуда остановился, снял мягко руку Мессалы со своего плеча и взглянул на него глазами, в которых дрожали слезы.
– Я понимаю тебя, потому что ты – римлянин; ты же не можешь понять меня, потому что я – израильтянин. Ты заставил меня сегодня страшно страдать, ибо, слушая тебя, я убедился, что мы отныне никогда уже не можем быть друзьями. Никогда! Тут мы расстаемся. Да почиет над тобой мир Бога моих отцов!
Мессала протянул ему руку; еврей вышел за ворота. По его уходе римлянин стоял молча несколько минут, затем он также вышел за ворота, затем встряхнул головой и сказал себе:
– Пусть будет так! Эрот умер, да здравствует Марс.