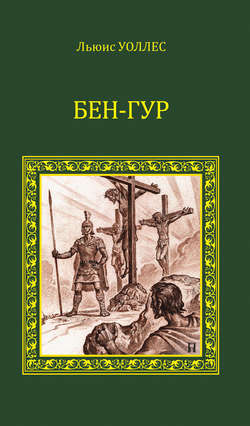Читать книгу Бен-Гур - Льюис Уоллес, Lewis Wallace - Страница 23
Книга вторая
Глава VI. Да здравствует Марс!
ОглавлениеДобрый человек, как и злой, должен умереть, но в силу нашей веры мы говорим при этом: что же? он пробудится на том свете. В этой жизни больше всего походит на это пробуждение то, когда человек просыпается после здорового сна, среди очаровательного зрелища, под звуки прелестных напевов.
Когда Иуда проснулся, солнце уже было высоко и освещало горы. Повсюду летали голуби и их белые крылья мерцали радужным блеском солнечных лучей. На юго-востоке красовался храм, а золото его ярко блестало на фоне голубого неба. Но это было обычное зрелище и он только мельком окинул его взором; на краю дивана, близ него, сидела девушка лет пятнадцати и пела, грациозно касаясь струн зибеля, покоившегося на ее коленях. На ней-то и остановились его взоры.
Песня: «Не просыпайся, но услышь меня, любимец мой! Гладко убаюканная тихим ветерком при дремоте моря, душа твоя да услышит мой зов. Не просыпайся, но услышь меня, любимец мой! Я несу тебе дар сна, царя покоя, полный счастливых, счастливых грёз.
Не просыпайся, но услышь меня, любимец мой! Из всего мира твоих грёз избери себе одну самую божественную. Избрав, усни, любимец мой. Но знай, что ты не властен впредь изменить избранной тобою грёзе, разве, разве только, для меня».
Она отложила в сторону свой инструмент, сложила на коленях руки и ждала, что он начнет говорить. Так как нам необходимо сказать о ней несколько слов, то за одно познакомим читателя и со всей семьей.
В Иерусалиме после Ирода осталось много знатных лиц, пользовавшихся его щедростями; если последние сыпались на потомков славных сынов одного из колен, особенно же колена Иуды, то счастливцев этих именовали князьями иерусалимскими, – отличие, благодаря которому они пользовались громадным почетом среди менее счастливых соотечественников, и уважением язычников, с которыми им приходилось входить в деловые сношения. Из числа этих баловней судьбы отец знакомого нам Иуды пользовался наибольшим почетом как в частной, так и в общественной жизни. Постоянно помня о народе, он оставался верен императору и честно служил ему как в Иудее, так и вне ее. Дела часто привлекали его в Рим, где он обратил на себя внимание Августа и снискал его дружбу. Вследствие этого в доме его красовалось множество ценных, вполне царских подарков – пурпуровые тоги, кресла из слоновой кости, золотые кубки, особенно ценные, потому что были вручены ему лично императором. Такой человек не мог быть беден, но богатство его не зависело от царских щедрот. Он вел множество предприятий. Значительное количество пастухов пасли его стада по равнинам и склонам древнего Ливана; на берегу моря и внутри страны находились основанные им торговые дома; его корабли привозили ему серебро из Испании, где в то время находились богатейшие рудники, а караваны дважды в год доставляли с Востока шелка и пряности. Еврей по вере, он строго соблюдал закон и существенные еврейские обряды, занимал почетное место в синагоге и храме и был сведущ в Писании. Он с наслаждением проводил время среди раввинов и доводил свое поклонение Гиллелю почти до обожания. Но он отнюдь не был сепаратистом; его гостеприимством пользовались чужестранцы со всех концов света, и щепетильные фарисеи обвиняли его в том, что за его столом не раз восседали самаритяне. Будь он язычник и проживи несколько дольше, мир, может быть, знал бы о нем, как о сопернике Ирода Аттика, но он был еврей и погиб лет за десять до того времени, к которому относится наш рассказ, – погиб во цвете лет, оплакиваемый всей Иудеей.
Мы уже знакомы с двумя членами его семьи, с его вдовой и сыном; у него осталась еще дочь – та самая девушка, которую мы застали напевающей песенку своему брату.
Ее звали Тирсой, и она сильно походила на брата. Те же правильные черты лица, тот же еврейский тип и та же прелесть детского выражения лица. Судя по костюму, легко было предположить, что она дома. Сорочка, застегнутая на правом плече и свободно спадавшая на грудь и спину, проходила под левое плечо, оставляя обнаженными шею и руки. Пояс стягивал складки сорочки, обрисовывая ее стан. Прическа ее была проста и изящна; на ней была шелковая шапочка из тирского пурпура, а поверх ее полосатый шарф из той же материи, прелестно вышитый, нежные складки которого ясно обрисовывали контур головы, ни мало не увеличивая ее размеров; все это завершалось кисточкой, спадавшей с верхушки шапочки. На пальцах она носила кольца, в ушах – серьги, на руках и ногах – браслеты из чистого золота, на шее – золотое ожерелье, изящно украшенное сетью тонких цепочек с привесками из жемчуга. Углы ее век, как и концы пальцев, были подкрашены. В целом нельзя было отказать ей ни в грации, ни в изяществе, ни в красоте.
– Очаровательно, Тирса, очаровательно! – восторженно воскликнул Иуда.
– Моя песнь? – спросила она.
– И ты и твоя песнь. В ней что-то греческое! Где ты заучила ее?
– Ты помнишь грека, певшего в театре месяц тому назад? Говорят, что он был певцом при дворе Ирода и его сестры Соломеи. Он выступил вслед за борцами, когда страшный шум еще раздавался в театре. Но при первом же звуке его голоса все стихло, и я могла разобрать каждое слово. Я у него и переняла эту песню.
– Но он пел по-гречески.
– А я по-еврейски.
– Вот как!.. Ты – моя гордость. Нет ли у тебя и другой такой же прелестной песенки?
– Есть много, но об этом потом. Амра послала меня сказать тебе, что она принесет тебе завтрак сюда, и тебе не за чем спускаться вниз. Она думает, что ты болен, что какое-нибудь большое несчастье приключилось с тобой вчера. Что с тобой, скажи мне, и я помогу Амре лечить тебя. Она знает египетские лекарства, но они все бессмысленны. Я же имею множество арабских рецептов, которые…
– Еще бессмысленнее египетских, – сказал он, качая головой.
– Ты думаешь? Ну хорошо; в таком случае, – продолжала она, ни мало не смущаясь, – оставим их в стороне. Я имею нечто получше и повернее – амулет, данный персидским магом кому-то из наших предков, – когда, я не знаю, ибо это очень давно. Посмотри, и надпись на нем почти совсем стерта.
Она подала ему сережку; он взял, посмотрел на нее и смеясь возвратил обратно.
– И умирая, Тирса, я бы не воспользовался этими чарами. Это – реликвия язычников, воспрещенная всем сынам и дочерям Авраама. Возьми и не носи ее больше.
– Запрещенная? О нет, – возразила она. – Мать нашего отца носила ее всю жизнь, даже и по субботам, и излечила ею множество народа… Она одобрена, посмотри, вот и печать нашего раввина.
– Я не верю в амулеты.
Она удивленно взглянула на него.
– Что сказала бы на это Амра!
– Отец и мать Амры возделывали свой сад на берегу Нила.
– А Гамалиил?
– Он говорит, что это безбожные выдумки неверующих и схизматиков.
Тирса с сомнением глядела на серьгу.
– Так что же мне с ней делать?
– Носи ее, сестренка, она идет тебе; она увеличивает твою красоту, хотя ты и без того прекрасна.
Довольная, она снова вдела ее в ухо, в то время как Амра вошла в комнату с рукомойником и полотенцем.
Иуда не был фарисеем, и потому омовение было быстро и просто. Затем Амра удалилась и Тирса принялась за его прическу. Когда ей удавалось изящно расчесать локон, она заставляла его любоваться в маленькое металлическое зеркало, которое, по обычаю всех красавиц страны, она носила на поясе. Тем временем они вели следующий разговор.
– Знаешь ли, Тирса, я уезжаю.
У нее опустились руки от удивления.
– Уезжаешь?.. Куда? когда? зачем?
Он засмеялся.
– Сразу три вопроса! Какая ты чудная. – Но затем прибавил серьезно: – Ты знаешь, что закон требует, чтобы я избрал какой-нибудь род занятий. Покойный отец служит мне примером. И даже ты презирала бы меня, если бы я праздно расточал плоды его трудов и знаний. Я уеду в Рим.
– О, и я с тобой!
– Ты должна остаться с матерью. Она умрет, если мы оба оставим ее.
Радость исчезла с ее лица.
– Да, да! Но зачем тебе ехать? Если ты хочешь быть купцом, то можешь научиться всему необходимому для этого и здесь, в Иерусалиме.
– Но я не думаю быть купцом. Закон не обязывает сына наследовать род занятий отца.
– Чем же ты хочешь быть?
– Солдатом, – отвечал он, а в голосе его звучала гордость.
На глазах Тирсы появились слезы.
– Тебя убьют.
– Если такова будет воля Бога. Но, Тирса, не всех солдат убивают.
Она обвила его шею руками, как бы желая удержать его.
– Мы так счастливы, оставайся дома, мой брат!
– Дом не всегда будет тем, чем теперь. Ты сама скоро оставишь его.
– Никогда.
Он улыбнулся ее серьезному тону.
– Скоро явится какой-нибудь князь Иудейский или иной кто из нашего племени, возьмет мою Тирсу и увезет ее к себе. И будешь ты радость другого дома. Что будет тогда со мной?
Она отвечала рыданиями.
– Война ремесло, – продолжал он уже серьезно, – и чтобы научиться, ему нужно пройти школу. А нет школы лучше римского лагеря.
– Ты не будешь воевать за Рим? – спросила она, сдерживая дыхание.
– И даже ты ненавидишь его! Весь мир ненавидит его. И в этом, о Тирса, ищи смысл моего ответа.
– Когда же ты едешь?
Послышались шаги возвращающейся Амры.
– Тише, – сказал он, – не говори ей ничего об этом.
Верная служанка вошла с завтраком и поставила поднос на стул перед ним; затем, с белой салфеткой на руке, она осталась служить им. Они помочили пальцы в чаше с водой и вытирали их, когда шум привлек их внимание. Они стали прислушиваться и оказалось, что то была военная музыка, раздававшаяся на улице с северной стороны дома.
– Солдаты из преториума. Нужно посмотреть на них! – воскликнул он, вскакивая с дивана и убегая.
Минуту спустя он уже стоял упираясь грудью о парапет из черепиц, обрамлявший северо-восточную часть кровли, и так увлекся, что не замечал Тирсу, стоявшую с ним рядом и державшую руку на его плече.
Крыша их возвышалась над крышами остальных домов и с нее можно было видеть все пространство вплоть до громадной, неправильной башни Антония, о которой мы уже упоминали, как о цитадели для гарнизона и главной военной квартире правителя. Через улицу шириной не более десяти футов там и сям были перекинуты мосточки, крытые и не крытые, которые, как и все крыши вдоль улицы, начали наполняться мужчинами, женщинами и детьми, привлекаемыми музыкой. Мы употребили это слово, хотя оно далеко не выражает того рева труб и грохота литавр, который раздавался теперь на улице и сильно поднял римских солдат.
Вскоре с крыши дома Гура можно было рассмотреть все шествие. Впереди авангард легкой пехоты – преимущественно пращники и стрельцы – выступал рядами и шеренгами с значительными перерывами; за ними следовал отряд тяжелой инфантерии, с массивными щитами и пиками, вполне соответствующими тем, которые употреблялись героями Илиады; затем шли музыканты, а за ними, отдельно от других, ехал офицер, окруженный стражей кавалеристов; наконец двигались плотные колонны тяжелой инфантерии, наполнявшей улицы от одной стены до другой и казавшейся без конца.
Темный цвет кожи солдата, мерные движения щитов справа налево, блеск блях, пряжек, лат, шлемов, тщательно вычищенных, развевающиеся знамена и перья султанов, блестящие концы копий; смелый, уверенный и тщательно размеренный шаг солдата, их верная и воинственная осанка, машинообразное единство движущейся массы – все это произвело на Иуду потрясающее впечатление. Два предмета обратили на себя особенное его внимание: во-первых, орел легиона, вызолоченное изображение которого помещалось на высоком древке с крыльями, распущенными над его головой. Он знал, что этот орел встречался с божескими почестями, когда выносился из своего помещения в башне.
Второй предмет, обративший на себя его внимание, был офицер, ехавший посреди колонны. Он ехал с непокрытой головой, хотя и в полном вооружении. Слева он носил короткий меч, в руке держал жезл наподобие свертка белой бумаги. Кусок пурпурового сукна заменял ему седло; уздечка была с золотыми удилами и шелковыми поводьями, украшенными бахромой.
Иуда давно уже заметил, что появление этого офицера вызывало в народе сильные взрывы гнева. Одни наклонялись над парапетами или выступали вперед и грозили кулаками; другие сопровождали его громкими криками и плевали в него, когда он проезжал под мостами; женщины даже бросали и не раз попадали в него сандалиями. Когда он приблизился, можно было разобрать и крики: грабитель, тиран, римская собака! Прочь Измаил, дай нам Анну!
При его приближении Иуда мог рассмотреть, что он не был так равнодушен, как его солдаты. Лицо его было мрачно и злобно, и взоры, бросаемые им на своих преследователей, были полны угроз, от которых содрогались наименее смелые.
Юноша слышал об обычае, существовавшем со времени первого цезаря, в силу которого начальники, в отличие от других, являлись перед народом в лавровом венке на непокрытой голове. По этому признаку он признал в офицере прокуратора Иудеи – Валерия Грата.
По правде сказать, несмотря на бурю вражды, вызванную римлянином, симпатия юноши была на его стороне, и когда он поравнялся с углом дома, Иуда, чтобы лучше рассмотреть его, перевесился через парапет и при этом уперся рукой о черепицу, которая давно уже была отломана. Давление было настолько сильно, что черепица сорвалась с места и покатилась. Дрожь испуга пробежала по телу юноши. Он наклонился, чтобы ухватить ее, и при этом имел вид, как будто он нечто бросает. Но старание его не только не имело успеха, но, наоборот, черепица, благодаря этому, только сильнее скользнула по крыше и со всей силой полетела вниз. Солдаты охраны взглянули вверх, взглянул и их начальник, но в этот момент черепица ударила его, и он упал с лошади.
Когорта остановилась; телохранители сошли с лошадей и поспешили щитами прикрыть своего начальника. Народ же, ни мало не сомневаясь, что удар был нанесен преднамеренно, рукоплескал юноше, который стоял на виду у парапета, пораженный ужасом как от случившегося, так и от последствий, которых он должен был ожидать.
Злобный дух охватил мгновенно всех людей, стоявших вдоль улицы и на крышах домов; они вырывали черепицы из парапетов, прожженную солнцем грязь, покрывавшую большую часть крыш, и в слепом гневе бросали ими в легионеров, стоявших внизу. Началось взаимное побоище. Дисциплина, конечно, взяла верх. Уменье сражаться, оружие, ловкость с одной стороны и отчаяние с другой – вот картина, предоставлявшаяся зрителю; но мы вернемся лучше к злополучному виновнику этого события.
Он отошел от парапета и бледный как смерть воскликнул:
– О Тирса, Тирса! Что будет с нами.
Она не видела всего случившегося, но следя за происходившим на соседних кровлях, знала, что совершилось нечто ужасное. Не зная причины события, она не подозревала и опасности, грозившей ей или кому-нибудь из ее близких.
– Что случилось? Что все это значит? – спросила она, охваченная внезапным ужасом.
– Я убил римского правителя, черепица упала на него.
Она мгновенно побледнела, как будто бы незримая рука осыпала ее лицо пеплом. Обвив его рукой и не говоря ни слова, она внимательно глядела ему в глаза. Его испуг передался ей, и при виде этого он почувствовал мужество.
– Я не преднамеренно сделал это, Тирса, это была простая случайность, – сказал он спокойнее.
– Что же они сделают? – спросила она.
Он видел усиливающийся беспорядок на улицах, на крышах домов, и припомнил зловещий взгляд Грата. Если он жив, то на чем остановится его месть? А если он убит, то до каких ужасов могут дойти легионеры под влиянием неистовства народа? Как бы ища ответа на эти вопросы, он опять перевесился через парапет в ту минуту, как охранители помогали римлянину сесть снова на лошадь.
– Он жив, он жив, Тирса! Да будет благословен Бог наших отцов!
При этом восклицании и с просиявшим лицом он отклонился от парапета и сказал ей:
– Не бойся, Тирса! Я объясню, как все это произошло, и они, помня нашего отца и его заслуги, не повредят нам…
Он повел ее в беседку, но в это время внизу под ними раздались голоса, треск стен и крики удивления и ужаса, как бы доносившиеся со двора. Он остановился и стал прислушиваться. Крики повторились, затем последовал шум множества шагов и смесь гневных криков с возгласами мольбы и женского смертельного ужаса. Солдаты ворвались очевидно в северные ворота и овладели домом. Он почувствовал неизъяснимый страх при мысли, что его схватят, и первым импульсом его было бежать. Но куда? Имей он крылья, он мог бы улететь, и это было единственным средством спастись.
Тирса, обезумевшая от страха, схватила его за руку.
– О Иуда, что все это значит?
Избивают слуг, а его мать? Не раздается ли в числе голосов и ее голос? И сделав над собой усилие, он сказал сестре:
– Стой здесь и жди меня, Тирса. Я пойду вниз и посмотрю, что с матерью.
Но она заметила волнение в его голосе и теснее прижалась к нему.
Теперь ему ясно слышались пронзительные крики матери, и он долее не колебался.
– Пойдем! – сказал он.
Терраса галереи у подножия лестницы была полна солдат, которые с обнаженными мечами вбегали и выбегали из комнат. В одном месте группа столпившихся женщин на коленях молила о пощаде; отдельно от нее женщина в разодранной одежде и с длинными волосами, падавшими на ее лицо, старалась вырваться от человека, силившегося удержать ее во что бы то ни стало. Ее крики были пронзительнее всех остальных и ясно долетали до кровли, несмотря на окружающий шум и гвалт.
К ней-то и бросился Иуда быстрыми и крупными шагами; он не шел, а как бы летел.
– Мать! Мать! – кричал он ей.
Она протянула к нему руки, но в ту минуту, как он уже коснулся до них, его схватили и оттащили; при этом кто-то внятно и громко сказал:
– Это он!
Иуда взглянул на говорящего и увидал Мессалу.
– Этот, что ли, убийца? – спросил взрослый мужчина в прекрасной одежде легионера. – Да он еще совсем мальчик?
– Боги! – возразил Мессала, не забывая и тут растягивать слова. – Новейшая философия! Что сказал бы Сенека, услыхав, что человеку необходимо быть старым, чтобы ненавидеть настолько, чтобы убивать. – Это он, берите же его; а вот это его мать, а там дальше – сестра. В ваших руках теперь вся семья.
Сила любви к последней заставила Иуду забыть даже ссору.
– Помоги им, о мой Мессала! Вспомни наше детство и помоги им. Я, Иуда, умоляю тебя.
Мессала сделал вид, что не слышит этих слов, и, обратившись к офицеру, сказал:
– Я не могу ничем более вам быть полезен. На улице интереснее. Прочь Эрот, да здравствует Марс!
И с последними словами он исчез. Иуда понял его и с горечью в душе молил небо:
– В час возмездия, о Боже, – сказал он, – да не останется и он безнаказанным.
Сделав над собою усилие, он приблизился к офицеру.
– О, сир, – сказал он, – эта женщина, вопли которой вы слышите, моя мать. Пощадите ее, пощадите и сестру мою, которая вот здесь. Бог справедлив, он воздаст вам милосердием за милосердие.
Человек, по-видимому, был тронут словами юноши.
– Отведите женщин в башню, – приказал он, – но не делайте им ни малейшего зла. Вы ответите мне за них. – И затем, обратившись к людям, державшим Иуду, сказал: – Принесите веревок, свяжите ему руки и тащите на улицу. Наказание еще ожидает его.
Мать увели. Маленькая Тирса, одетая по-домашнему и оцепеневшая от ужаса, пассивно следовала за стражей. Иуда, послав каждой из них по прощальному взору, закрыл лицо руками, как бы желая неизменно удержать в памяти весь ужас этой сцены. Может быть, он и плакал, но никто не видел слез на его лице. Затем в нем произошло то, что по справедливости может быть названо чудом жизни. Наблюдательный читатель этих страниц, вероятно, уже заметил, что молодой еврей был мягок и женственно нежен – обыкновенное свойство любящих и любимых. Условия, в которых он жил, не пробуждали еще черствых сторон его натуры, если даже они и были у него. По временам в нем проявлялось самолюбие, но смутными проблесками, подобно бесформенным грезам ребенка, блуждающего по берегу реки и следящего за мелькающими там и сям кораблями. Но теперь…
Только кумир, чувствовавший воздаваемые ему поклонения и мгновенно поверженный во прах развалин всего того, что он любил, может помочь нам составить себе понятие об ощущениях Бен-Гура и о перемене, в нем происшедшей. Ничего, правда, не выдавало этого переворота, и только когда он приподнял голову и протянул руки людям, принесшим веревки, чтобы связать их, изгибы краев его губ, напоминавшие лук Купидона, навсегда сгладились с его лица. Ребенок мгновенно стал мужем.
На дворе раздался звук трубы; при последнем его звуке галерея очистилась от солдат. Многие из них, не смея стать в ряды с награбленными ими вещами, бросали на пол, который оказался весь усыпан драгоценностями.
С появлением Иуды войска уже стояли на местах, и начальник ожидал только исполнения своего последнего приказания.
Мать, дочь и все домашние были выведены в северные ворота, дорогу к которым загромоздили развалины. Вопль слуг, многие из которых родились в этом доме, были ужасны.
Когда же наконец провели мимо Иуды лошадей и весь скот, он понял, какую месть готовил прокуратор. Их дом был осужден. Ничто живое не должно было оставаться в нем; и если бы в Иудее нашлись безумцы, готовые поднять руку на римского начальника, – участь княжеского дома Бен-Гуров должна была служить им предостережением, ибо развалины его оставались незыблемым памятником всего происшедшего.
Начальник выжидал поодаль, пока отряд воинов восстановлял ворота.
На улице беспорядок уже почти прекратился, и только вздымавшиеся столбы пыли над крышами некоторых домов указывали на те места, где борьба еще продолжалась. Большая часть когорты отдыхала, сохраняя и порядок, и прежний блеск. Иуда, забыв о себе, глядел только на пленников, в числе которых взор его тщетно искал мать и сестру.
Вдруг одна женщина, поднявшись с земли, кинулась к воротам. Несколько человек стражи бросились, чтобы схватить ее, но взрыв смеха встретил их неудачу. Она подбежала к Иуде и, упав на колени, прильнула к его ногам, причем черные, курчавые волосы, покрытые пылью, закрыли ей глаза.
– О Амра, добрая Амра, – сказал он, – да поможет тебе Бог, а я уже более помочь тебе не в силах.
Она не могла произнести ни слова. Он нагнулся и прошептал ей:
– Живи Амра для Тирсы и для моей матери. Они вернутся и… – Солдат оттащил ее, но она вырвалась и проскользнула через ворота и проход во двор дома.
– Оставьте ее, – закричал начальник. – Мы запечатаем дом, и она там издохнет.
Люди принялись снова за работу и, окончив ее, перешли к западным воротам. Эти ворота были тоже заделаны, и дворец Гуров стал мертвой могилой.
Вслед за этим когорта удалилась к башне, где прокуратор остался, чтобы оправиться от ран и разместить пленных. Через десять дней он снова посетил рыночную площадь.