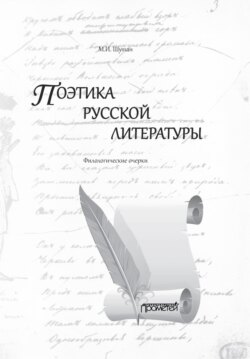Читать книгу Поэтика русской литературы. Филологические очерки - М. И. Шутан - Страница 3
Интертекстуальный подход к анализу произведения
Диалог О. Э. Мандельштама с пушкинским «Пророком»
ОглавлениеВряд ли можно возразить И. З. Сурат, утверждающей, что «в стихотворении «Пророк» Пушкин совместил своё лирическое Я с образом библейского пророка и поэзию отождествил с жертвенным пророческим служением» [3: 249].
Мандельштам вступил в своеобразный диалог с пушкинским «Пророком», в связи с чем прежде всего внимательно прочитаем его стихотворение «Как облаком сердце одето…» (1910 г.) [1: 278]:
Как облаком сердце одето
И камнем прикинулась плоть,
Пока назначенье поэта
Ему не откроет Господь:
Какая-то страсть налетела,
Какая-то тяжесть жива;
И призраки требуют тела,
И плоти причастны слова.
Как женщины, жаждут предметы,
Как ласки, заветных имен.
Но тайные ловит приметы
Поэт, в темноту погружен.
Он ждет сокровенного знака,
И дышит таинственность брака
В простом сочетании слов.
Посмотрим, как характеризуется состояние человека, которого нельзя назвать поэтом (пророком).
Это прежде всего сердце, одетое облаком. Только что названный образ жёстко фиксирует некую пространственную сферу, отделяющую душу от окружающего мира, сферу пустую, бессмысленную.
Это и плоть, которая прикинулась камнем (один из любимейших образов поэта!). Камень в данном случае может восприниматься как символ безжизненности. Но глагол «прикинулась», употребляемый поэтом, включает читательское сознание в логику игры – неких имитационных действий, которые соответствуют норме существования человека в обыденном, прозаическом мире.
В пушкинском «Пророке» [2: 385] перед нами разворачивается совсем другая картина: мы видим томимого духовной жаждой человека, который влачится в мрачной пустыне. Если мандельштамовский персонаж, каким мы его видим в начале стихотворения, ничтожен, то к пушкинскому персонажу такая жёсткая оценка не имеет отношения, ибо перед нами личность, стремящаяся к духовному, возвышенному началу, личность, оказавшаяся в кризисной ситуации (очень точен при раскрытии её состояния глагол движения «влачился», приобретающий чуть ли не символический смысл!), личность, которой требуется помощь самого Бога.
Какая же сила способна преобразить человека?
В «Пророке» это серафим, явившийся персонажу на перепутье. Будучи посланником Бога, он изменяет и физическую, и психологическую, и этическую природу человека, который должен стать пророком. Но преображающей силой нельзя не назвать и самого Бога, взывающего к персонажу: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, // Исполнись волею моей, // И, обходя моря и земли, // Глаголом жги сердца людей». Не удивляет, что слова Бога звучат в конце произведения, ибо сейчас речь идёт о высшей, кульминационной точке: и душа, и сознание пророка будут направлены только на людей, которые во имя нравственного очищения должны пройти через душевные муки. Такова миссия пророка!
В стихотворении Мандельштама назначение поэта открывает персонажу Господь. Поэтому не удивляет, что сама творческая личность ждёт сокровенного знака свыше, хотя уже готова на песнь, «как на подвиг». А сам мир как бы застыл в ожидании: «призраки требуют те́ла», предметы жаждут «заветных имён», сравниваемых с ласками. Иначе говоря, после того как поэту будет дан «сокровенный знак», он окажется способным на языке образов обозначить явления, свойства мира. Но «в простом сочетании слов», возникших как следствие преображения, «дышит таинственность брака». Следовательно, само поэтическое творчество, несмотря на устремлённость к земному, вещному, осязаемому миру (вспомним об эстетической позиции акмеистов), не сводится к одномерным категориям рационалистического сознания, ибо таит в себе нечто непостижимое разумом, необъяснимое, интуитивное.
Но вспомним, какова направленность изменений человека в пушкинском «Пророке»: «Отверзлись вещие зеницы, // Как у испуганной орлицы»; «И внял я неба содроганье, // И горний ангелов полёт, // И гад морских подводный ход, // И дольней лозы прозябанье». В результате метаморфозы человеку должны раскрыться те стороны действительности, которые ранее для него были закрыты. Замена празднословного и лукавого языка на «жало мудрыя змеи», а трепетного сердца на «угль, пылающий огнём» также должны пророка предельно приблизить к реальности: речь идёт об адекватной эмоциональной реакции на неё и точной оценке (неспроста жало названо мудрым). И наконец миссия пророка, лаконично сформулированная Богом и имеющая подчёркнуто этическое измерение!
В отличие от пушкинского «Пророка» мандельштамовское стихотворение полностью лишено этического содержания, но обнаруживается принципиальное сходство, выражающееся в устремлённости поэта – пророка к окружающему миру.
Отметим, что пушкинской строке «Глаголом жги сердца людей» соответствует поэтический фрагмент 1931-го года [1: 181]:
Я больше не ребёнок!
Ты, могила,
Не смей учить горбатого – молчи!
Я говорю за всех с такою силой,
Что нёбо стало небом, чтобы губы
Потрескались, как розовая глина.
И. Сурат так характеризует стихотворение: «Личное душевное пространство поэта раздвигается до размеров вселенной, как в пушкинском «Пророке», поэт говорит за всех как имущий власть и знающий истину, и слово его обжигает, как солнце обжигает глину. У пушкинского пророка «сердце трепетное» заменяется на «угль, пылающий огнём», у Мандельштама этому соответствуют обожжённые губы поэта (напомним, что именно губы постоянный у него атрибут поэтического творчества). И на этом фоне особое значение приобретает красноречивая дата, которой помечен отрывок – «6 июня 1931», день рождения Пушкина (по новому стилю)» [3: 252].
В «Пророке» звучит тема преображения человека. Но она отчётливо звучит и в лирической миниатюре О. Э. Мандельштама «Я к губам подношу эту зелень…» (1937 г.) [1: 254]:
Я к губам подношу эту зелень —
Эту клейкую клятву листов,
Эту клятвопреступную землю:
Мать подснежников, кленов, дубков.
Погляди, как я крепну и слепну,
Подчиняясь смиренным корням,
И не слишком ли великолепно
От гремучего парка глазам?
А квакуши, как шарики ртути,
Голосами сцепляются в шар,
И становятся ветками прутья
И молочною выдумкой пар.
В начале произведения показывается преображение в самой природе: прутья становятся ветками, а пар превращается в молочную выдумку. А квакуши, напоминающие шарики ртути, «голосами сцепляются в шар». То есть звуковые образы начинают восприниматься как визуальные, зрительные!
Но необходимо поразмышлять и о преображении, происходящем во внутреннем мире самого лирического героя.
Этот герой, подносящий к губам зелень, которая напоминает ему о самой «клятвопреступной земле» – «матери подснежников, клёнов, дубов», крепнет и слепнет, «подчиняясь смиренным корням», то есть теряет свою индивидуальность, теряет свою человеческую природу, чуть ли не физически преображаясь. Конечно же, здесь передаётся не процесс трансформации в духе мифологических или сказочных повествований. Главное – то, каким себя ощущает и осознаёт человек, находящийся в ближайшей зоне контакта с миром природы, с самой землёй. Для него трансформация, преображение – реальность!
Итак, стихотворение Мандельштама – это гимн «клятвопреступной земле». Но в нём отсутствует двоемирие. Поэт очарован земной природой. Только она, единственная и неповторимая, в данный момент для него и существует. Причём одухотворённая, очеловеченная (вспомним о «клейкой клятве листов»). А сам лирический герой сливается с окружающим миром – и в этом для него подлинное счастье.
А каковы причины «преображения» лирического героя Мандельштама?
Герой стихотворения счастлив полностью слиться с миром природы, потеряв собственное «Я», собственную индивидуальность. Видимо, усталость его от пребывания в мире людей настолько сильна (неизбежно оживают в памяти факты биографии поэта), что жизнь его в «системе социально-политических координат» невыносима, ибо навсегда потерян её смысл.
Хотя возможно и совсем другое объяснение лирической ситуации, в этом случае полностью лишённой драматизма: мир природы настолько притягателен, что искушение полностью слиться с ним воистину непреодолимо. В пользу высказанной выше точки зрения то, что стихотворение было написано Мандельштамом после прогулки с Н. Штемпель в Ботаническом саду, которая вспоминала: «Было пустынно, ни одного человека, только в озёрах радостное кваканье лягушек, и весеннее небо, и деревья почти без листьев, и чуть зеленеющие бугры». Идиллическая картина!
«Всё творчество Мандельштама, по собственному его выражению, есть «ученичество миров». Это взгляд на мир, в котором всё создано для учения. <…> Мандельштам – именно «в заваленной снегом землянке», именно «под смертным топотом», втаптывающим его в землю: под тяжестью закона, которым человек осуждён и запечатан – и который он передаёт другим, как урок» [4: 111].
Эти высказывания могут показаться странными, если их применять к стихотворению «Я к губам подношу эту зелень…» Но серьёзно вдумавшись в них, несоответствия не обнаружишь, ведь лирическое произведение Мандельштама о предельной подчинённости человека-ученика природному закону, который над ним и не подлежит обсуждению. Тогда истоки такого необычного восприятия и осознания личностью самой себя необходимо искать в её философском мировоззрении.
Такое стихотворение О. Э. Мандельштама нельзя назвать случайным. В стихотворении «Ламарк» (1932 г.) [1: 186] показана потеря человеком своего облика, своей природы: «К кольчецам спущусь и к усоногим, // Прошуршав средь ящериц и змей, // По упругим сходням, по излогам // Сокращусь, исчезну, как Протей. // Роговую мантию надену, // От горячей крови откажусь, // Обрасту присосками и в пену // Океана завитком вопьюсь».
Ламарк – французский натуралист, который развивал идеи об эволюции живой природы под воздействием внешней среды и внутренней тяги организмов к совершенствованию. Н. Я. Мандельштам, жена великого поэта, считала, что в произведении показано «не отщепенство и изоляция от реальной жизни, а страшное падение живых существ, которые забыли Моцарта и отказались от всего (мозг, зрение, слух) в этом царстве паучьей глухоты. Всё страшно, как обратный биологический процесс».
Так и напрашивается соотнесение двух стихотворений поэта, содержание которых определяет ситуация преображения человека. Но в лирической миниатюре «Я к губам подношу эту зелень…» такое преображение подаётся как нечто позитивное, ибо в гиперболической форме оно выражает всю силу любви героя к природе как воплощению естества. В «Ламарке» же – это страшный знак деградации, знак возможного будущего человечества. Причём деградация может осмысляться в двух ракурсах – биологическом и социально-нравственном, то есть метафорически.
Конечно, эти два стихотворения не следует рассматривать как развёрнутые реплики в диалоге Мандельштама с пушкинским «Пророком», но они делают взгляд поэта на преображение человека более объёмным и, естественно, усложняют его.
ЛИТЕРАТУРА
1. Мандельштам О. Э. Сочинения в двух томах. Том первый. – М., 1990.
2. Пушкин А. С. Сочинения в трёх томах. Том 1. – М., 1985.
3. Сурат И. З. Мандельштам и Пушкин. – М., 2009.
4. Эпштейн М. Н. Поэзия и сверхпоэзия: О многообразии творческих миров. – СПб., 2016.