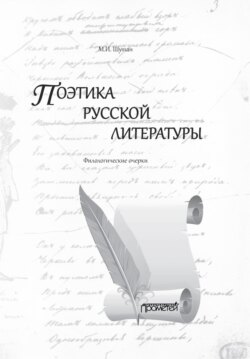Читать книгу Поэтика русской литературы. Филологические очерки - М. И. Шутан - Страница 5
Интертекстуальный подход к анализу произведения
Интертексты в лирике А. С. Кушнера
ОглавлениеНередко новый текст представляет собой своеобразную вариацию на тему, заявленную и убедительно раскрытую в тексте исходном (претексте).
Сопоставим пушкинское «Желание славы» (1825 г.) [3: 232–233] со стихотворением А. С. Кушнера «О слава, ты так же прошла за дождями…» (1974 г.) [2: 144–145]. В стихотворении А. С. Пушкина раскрывается тяжелейшее психологическое состояние лирического героя, узнавшего о том, что его возлюбленная предпочла другого. И сейчас он охвачен лишь одним стремлением: «Желаю славы я, чтоб именем моим // Твой слух был поражён всёчасно, чтоб ты мною // Окружена была, чтоб громкою молвою // Всё, всё вокруг тебя звучало обо мне…»
В стихотворении А. С. Кушнера совсем другая атмосфера: «на юг улетела последняя птица», «зима настаёт», «последний ушёл из Невы теплоход», «снежок выпадает на город туманный», «замёрз на афише концерт фортепьянный», «последняя рифма стучится в висок». Атмосфера энтропии, умирания: упоминание о зиме здесь столь уместно! А что собой представляет прощание? Это прощание без слов, односложное, сухое. Итог отношений ассоциируется у поэта с музыкой, которая «медленно выйдет из слуха», а музыка в свою очередь сравнивается с водой, выходящей из ушей после купанья, а также с «маленьким, тёплым, щекотным ручьём» (точные физиологические детали). Освобождение от музыки – освобождение от любви, от прошлого, возвращение к которому невозможно. И главное – спокойствие, так контрастирующее с волнением пушкинского лирического героя: «Что я, где я? Стою, // Как путник, молнией, постигнутый в пустыне, // И всё предо мной затмилося!»
Знаком спокойствия является равнодушие к тому, чем охвачен пушкинский лирический герой: «О слава, ты так же прошла за дождями, / Как западный фильм, не увиденный нами, / Как в парк повернувший последний трамвай, – Уже и не надо. Не стоит. Прощай!»; «Нас больше не мучит желание славы, / Другие у нас представленья и нравы…» Потрясает сам характер сравнений того, что случилось в сознании и душе современного человека, с реалиями бытовой, повседневной жизни. Кажется, что в последней восторжествовало прозаическое начало. Иначе говоря, стихотворение А. С. Кушнера, вполне осознанно отталкивающегося от пушкинского стихотворения, которое было написано в первой четверти позапрошлого столетия, раскрывает психологический мир современного человека, далёкого от страстей, бешеных порывов, индивидуалистических реакций на случившееся. Действительно, мир замёрз: «Замёрз на афише концерт фортепьянный». Если замёрз фортепьянный концерт (какой точный и необычный образный ход!), то в самом мире нет музыки, нет красоты, нет подлинной жизни, а есть лишь её унылая имитация.
Как это стихотворение органично вписывается в историко-литературный контекст конца шестидесятых – семидесятых годов!
Как мы видим, тема желания славы в стихотворении А. С. Кушнера подаётся в совсем другом ракурсе, трансформируясь чуть ли до неузнаваемости.
От стихотворения А. А. Фета «На стоге сена ночью южной…» [4: 288] можно перекинуть мостик к стихотворению А. С. Кушнера «Стог» [2: 88–89], у которого обнаруживается следующий эпиграф: «На стоге сена ночью южной // Лицом ко тверди я лежал».
Содержание фетовского стихотворения 1857-го года определяет ситуация «человек и небо». Причём лирический герой, находясь на земле, одновременно существует в ином пространственном измерении («Земля, как смутный сон немая, // Безвестно уносилась прочь…»). Земной мир постепенно исчезает, поэтому он не может быть соотнесён со смутным сном – и человек остаётся один на один с миром космоса. То есть происходит медленное освобождение его от земного. Встречающегося в начале стихотворения пространственного контраста уже нет.
В стихотворении Фета звучит мотив движения. Во-первых, слившись с миром космоса, лирический герой теряет чёткое представление о субъекте самого движения: «Я ль нёсся к бездне полуночной, // Иль сонмы звёзд ко мне неслись?» Во-вторых, граница между движением и покоем весьма относительна: «Казалось, будто в длани мощной // Над этой бездной я повис. // И с замираньем и смятеньем // Я взором мерил глубину, // В которой с каждым я мгновеньем // Всё невозвратнее тону». Воистину лирический герой Фета выходит за границы обычного, земного восприятия и понимания действительности, он оказывается в иной «системе координат».
Эта мысль получит своё развитие в стихотворении 1876-го года «Среди звёзд» [4: 105], в котором знание о мире вечности, знание точное, чуть ли не математически выверенное, резко контрастирует с пониманием, основанным не на рационалистическом подходе, а на живом, полном поэзии и фантазии восприятии космоса: «Но лишь взгляну на огненную книгу, // Не численный я в ней читаю смысл». Именно такое восприятие ночного неба позволяет человеку приблизиться к миру вечности, а вечность вызволяет его из душного мира земной тьмы и растворяет его душу в отрадном мире света.
Если Фет ограничивается обобщёнными и предельно краткими характеристиками земного мира, то Кушнер в стихотворении «Стог» проявляет особый интерес к его деталям, характеризуемым далеко не романтическим способом. Поэт подробнейшим образом пишет о том, что полностью отсутствует у Фета, – о стоге сена: «Я боком встал, плечом повёл, / Так он кололся и кусался», «Он горько пахнул и дышал, // Весь колыхался и дымился», «Ползли какие-то жучки // По рукавам и отворотам», «Я гладил пыль, // ласкал труху».
И самое главное: если лирическому герою Фета становится доступным контакт с миром вечности, гармонизирующий его душевное состояние, то лирический герой Кушнера не может пробудить в себе романтическое настроение, ибо его охватывает безграничный страх, парализующий волю: «И голый ужас, без одежд, // Сдавив, лишил меня движений. // Я падал в пропасть без надежд, // Без звёзд и тайных утешений»; «И в целом стоге под рукой, // Хоть всей спиной к нему прижаться, // Соломки не было такой, // Чтоб, ухватившись, задержаться!» Причём отдельные художественные детали, отличающиеся натурализмом, являются знаками сильного волнения: «Чесалась потная рука, // Блестела мокрая рубаха».
Вместо возвышенного состояния души сковывающий страх, неприятные физиологические ощущения. Вместо звёзд дрожащего «хора светил», «живого и дружного», «ополоумевшие» облака, «серые от страха». Кажется, что окружающий мир – отражение лирического героя, его дисгармоничного состояния.
А. С. Кушнер поставил эпиграфом к своему стихотворению «Потому-то и лебеди нежные…» [2: 543] строчку И. Ф. Анненского «Облака, мои лебеди нежные!..»
Само стихотворение современного поэта не противоречит эпитету «нежные», являющемуся определяющим у И. Ф. Анненского, хотя акцент в нём делается совсем на другом, если можно так выразиться, на психологической драме, ибо облакам «хочется быть не похожими ни на что», ведь они тяготятся теми земными формами, которые постоянно воспроизводят (снежными вершинами, двугорбыми верблюдами, крышкой концертного рояля, зубчатой кремлёвской стеной, крахмальной манишкой поэта, шкатулкой, паклей, ватой). Причём этот перечень можно продолжать до бесконечности, ведь земная жизнь так многообразна.
В стихотворении И. Ф. Анненского «Облака» [1: 103], откуда взята поэтическая строчка, сами облака непосредственно соотнесены с настроением лирического героя и при этом не теряют поэтического очарования: «Только под вечер в облаке розовом // Будто девичье сердце забрезжится», «Безнадёжно, полосками тонкими, // Расплываясь, друг к другу всё тянетесь…», «А вы всё надо мною, ревнивые, // Будто плачете дымчатым таяньем…». Эта пейзажная картина проникнута человеческими чувствами. Насколько всё это далеко от атмосферы, создаваемой А. С. Кушнером: в его лирической миниатюре признак, на основе которого небесное приближается к земному, подчёркнуто материален, прозаичен. Даже сам повтор соединительного союза, кстати, занимающего и анафорическую позицию, и позицию в середине поэтической строки, делает интонационный рисунок монотонным, заунывным (во второй же строфе разделительный союз, повторяющийся в начале четырёх соседних строк, усиливает это ощущение). Обращает на себя внимание и эпитет А. С. Кушнера «стерильные». Несомненно, это слово несёт в себе оценочный смысл, близкий к ироническому.
«Психологическая подача» реалий небесного мира присутствует и у того и у другого поэта, но назначение её в каждом конкретном случае индивидуальное, своеобразное.
Тексту стихотворения А. С. Кушнера «Ветвь» [2: 243–244] предшествует следующая строка И. Ф. Анненского: «Но сквозь сеть нагих твоих ветвей». Читая произведение современного автора, мы как бы видим средь слепящих снегов «ветвь на фоне дворца с неопавшей листвой золочёной». Но самое главное здесь ассоциация поэта: ветвь кажется ему рукотворной, «жёстко к стволу пригвождённой», и, по его мнению, она ничем не отличается «от многолетних цветов на фасаде», «от гирлянд и стеблей на перилах», от «узорных дверей». Причём ассоциация с вещным миром ни в коей мере не лишает ветвь поэтического очарования, ибо в центре внимания оказываются результаты художественной, творческой деятельности человека.
Во второй строфе стихотворения этот ассоциативный ряд получает продолжение: «Ветвь на фоне дворца, пошурши мне листочком дубовым, // Помаши, потряси, как подвеской плафон, побренчи, // Я представить боюсь, неуместным задев тебя словом, // Как ты бьёшься в ночи». Лирический герой сравнивает ветвь с подвеской плафона и тут же обращается к ней так, как можно обратиться к живому существу, за душевное состояние которого (слишком велика опасность его мук, страданий) переживаешь с особой силой. И далее психологический ракурс подачи образа становится ещё более очевидным: ветвь «похожа на тех, кто живёт, притворяясь железным // Или каменным, боль не давая почувствовать нам». Как мы видим, опредмечивание образа, имеющего непосредственную связь с миром природы, приобретает глубоко психологический смысл: речь идёт о несоответствии внутренней жизни внешней, о некоем зазоре, свидетельствующем о силе духа, силе характера. Эпитеты «железный», «каменный» в этом контексте приобретают символический смысл.
И далее тема мужества получает развитие: «Но зимой не уроним достоинство тихое наше // И продрогшую честь». Симптоматично следующее: поэт употребляет личное местоимение множественного числа, то есть меняет число, ибо относит эту ветвь и самого себя к одному и тому же миру.
Принципиально важна и пушкинская тема, присутствующая в стихотворении: созерцая мир, поэт представляет «царскосельского поэта с гимназической связкой тетрадей и трилистник его золотой». То есть сам лирический герой, ветвь, которой посвящено стихотворение, входят в общее культурное пространство, освящённое именем Пушкина и столь близкое, дорогое Анненскому (вспомним его биографию и творчество).
«Опредмечивание» образа, встречающегося у И. Ф. Анненского, помогает А. С. Кушнеру, как это ни парадоксально, в развитии психологической темы, не лишает его поэтичности и тем более не разрушает его смысловое ядро.
ЛИТЕРАТУРА
1. Анненский И. Ф. Избранные произведения. – Л., 1988.
2. Кушнер А. С. Избранное. – М., 2005.
3. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в одном томе. – М., 2017.
4. Фет А. А. Стихотворения. – М., 2012.