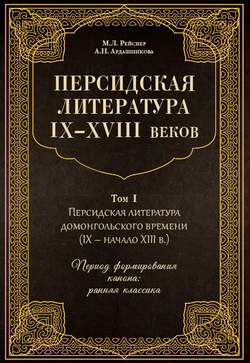Читать книгу Персидская литература IX–XVIII веков. Том 1. Персидская литература домонгольского времени (IX – начало XIII в.). Период формирования канона: ранняя классика - М. Л. Рейснер - Страница 5
Глава 1
Возникновение и развитие придворной поэзии IX – начала XII века
Современники Рудаки
ОглавлениеО поэтах-современниках и первых преемниках Рудаки известно еще меньше, чем о нем самом. Старые антологии и толковые словари сохранили для нас лишь имена и немногочисленные строки таких известных в Х в. стихотворцев, как Шахид Балхи, Абу Шукур Балхи, Дакики и др.
Талантливый поэт Шахид Балхи (ум. 936), писавший по-персидски и по-арабски, был, вероятно, еще незаурядным философом и искусным каллиграфом. В средневековом библиографическом сочинении ан-Надима «Фихрист» сведения об ученых занятиях Шахида Бахи содержатся в главе, посвященной знаменитому философу Мухаммаду ибн Закарийа ар-Рази (865–925), где говорится, что последнему принадлежал трактат под названием «Книга возражений против Шахида ал-Балхи по поводу его возражений по вопросу о [сущности] наслаждения». Отметим, что столь выдающийся ученый, как Закарийа ар-Рази, вряд ли стал бы посвящать целую книгу дискуссии с другим философом, если бы не считал его равным себе. В той же главе говорится, что в науке Шахид «следовал взглядам [ар-Рази]». О вошедшем в легенду искусстве Шахида-каллиграфа спустя век напишет Фаррухи: «Почерк у него таков, что не отличить от почерка Шахида».
С легкой руки известного востоковеда Джорджа Дармстетера поэта стали называть первым пессимистом в персидской литературе. Основание для этого действительно дают некоторые афористические строки Шахида, например, такие:
Если бы у печали был дым, как у пламени,
Вечной тьмою покрылся бы мир.
Обойди из конца в конец хоть весь свет,
Не встретишь ни одного веселого мудреца.
Во многих из сохранившихся стихов Шахида звучат сетования на засилье невежества и на непризнание обществом людей мудрых и просвещенных. Вошли в поговорку его строки:
Знание и богатство – нарцисс и роза,
Не цветут они в одном месте.
У кого есть знание, тому не хватает богатства,
А у кого есть богатство, мало знания.
Мотивы осуждения невежества и жалобы на бедственное положение просвещенных людей своего времени роднят стихи Шахида Балхи со стихами других ученых, которые позже снискали славу и в литературе, например, Абу ‘Али ибн Сины и ‘Умара Хайама.
Другой поэт – современник Рудаки Абу Шукур Балхи (род. 915) получил известность благодаря дошедшей в небольших отрывках поэме «Книга творения» (Афарин-нама), законченной в 947 г. Очевидно, это было этико-наставительное произведение, выдержанное в духе раннесредневековых пехлевийских «книг советов» (панд-намак). Маснави, написанное метром мутакариб, в соответствии со старой традицией начинается с похвалы разуму (ср.: среднеперсидское сочинение «Суждения Духа Разума»):
Наделенный Разумом знает, что есть праведность и что есть
совесть,
Что есть правдивость, благородство и сдержанная речь.
Бывает нрав праведников и нрав ангелов
И на земле, и на небесах.
Говорит мудрец: «Разум – падишах,
Который правит равно над вельможей и над простолюдином.
Для Разума тело человека есть войско,
Все плотские страсти и желания [человека] у него в подчинении.
Если ты не знаешь [чего-нибудь], Разум тебя научит.
Если ты зачахнешь, Разум тебя излечит».
Об устойчивости традиции восхваления разума в персидской литературе свидетельствует начало поэмы «Шах-нама» Фирдауси (см. далее). Поэма Абу Шукура Балхи представляет собой сумму морально-этических сентенций, по существу лишенных каких бы то ни было разъяснений и иллюстраций, за исключением коротких афористических высказываний (хикмат). Дальним отголоском этой традиции светской дидактической поэмы специалисты считают знаменитую поэму Са‘ди «Бустан», на что указывает не только ее содержание, но и совпадение по метрической модели (она тоже написана размером мутакариб).
Еще одной литературной знаменитостью Х в. был Дакики. Предполагается, что он втайне придерживался обычаев старой веры, за что, возможно, и поплатился жизнью. Согласно данным средневековых источников, он погиб от руки своего любимца-раба между 977 и 981 гг., когда ему было около 30 лет.
Дошедшие до нас стихотворения Дакики на календарную тему отличаются живописностью и яркостью образов, как, например, стихотворение, начинающееся словами «О кумир, райское облако накинуло на землю халат месяца урдибихишт»:
Земля – словно окропленная кровью парча,
Воздух – словно окрашенный в индиго шелк.
Всё [вместе] напоминает вином и мускусом
Нарисованный в степи портрет подруги.
От глины исходит аромат розовой воды,
Словно глина замешена на розах.
Далее в стихотворении автор сравнивает пестреющую весеннюю степь с разноцветным павлином, а цветущие в садах деревья – с разодетыми красавицами. Вся картина создает ощущение праздника, а заканчивается стихотворение строками, содержащими своеобразное жизненное кредо поэта:
Дакики четыре вещи избрал
Из всего хорошего и дурного в этом мире:
Губы цвета коралла, стоны чанга,
Вино цвета лунного луча и веру Заратуштры!
Прославился Дакики тем, что задумал и частично осуществил поэтическую обработку доисламских иранских эпических сказаний. Возможно, в основу своей версии «Книги царей» поэт положил первый прозаический извод пехлевийской «Книги владык», выполненный арабским автором ХI в. Мас‘уди. Поставив перед собой грандиозную задачу, автор успел написать лишь около тысячи бейтов, которые впоследствии Фирдауси, как дань уважения предшественнику, включил в свою эпопею, предпослав соответствующей части поэмы рассказ о трагической гибели Дакики.
Свою историю иранцев Дакики начинает с появления пророка Заратуштры в эпоху правления Кайанидов и воспроизводит один из эпизодов цикла эпических сказаний, известный из пехлевийского сочинения «Предание о сыне Зарера» (Йадгар-и Зареран). Главный герой у Дакики – витязь Исфандйар.
Среди современников Рудаки выделяется незаурядным талантом поэтесса Раби‘а бинт Ка‘б Куздари (Х в.), носившая прозвище «Краса арабов» (Зайн ал-‘араб). Происходила Раби‘а из знатного арабского рода: ее отец был наместником в Балхе. Еще в Средневековье вокруг ее имени сложились легенды, повествующие о любви аристократической красавицы к рабу своего брата по имени Бекташ. По всей видимости, эти легенды возникли в качестве псевдоисторического комментария к стихам поэтессы, в которых говорилось о любовных страданиях. Предание гласит, что эта любовь закончилась трагически: по приказу разгневанных родственников девушку замуровали в жарко натопленной бане, вскрыв ей вены. Умирая, она писала на стене кровью свои последние стихи. Письменная традиция закрепила легендарную биографию Раби‘и Куздари в качестве символического выражения любви человека к Богу. Сюжет этот был использован в поэме ‘Аттара «Илахи-нама» (конец XII – начало XIII в.) и в любовно-мистическом маснави поэта, филолога и историка ХIХ в. Риза Кули-хана Хидайата «Цветник Ирама» (Гулистан-и Ирам).
Характер некоторых стихотворений Раби‘и также позволил суфийским авторам истолковать их как «чистейшее выражение божественной любви» (шейх Абу Са‘ид б. Абу-л-Хайр Майхани[10]). Действительно, мотивы любовной лирики поэтессы находят дальнейшее развитие именно у суфиев. Вот один из наиболее ярких примеров:
Я снова попалась в тенета любви,
Все мои усилия [вырваться] были бесплодны.
Любовь – это бескрайнее море,
Разве можно переплыть его, о несчастный?
Ты хочешь довести любовь до конца?
О, сколько неприятного тебе придется признать приятным!
Надо смотреть на безобразное и считать его прекрасным,
Надо вкушать яд и считать его сахаром.
Рвалась я, как необъезженный конь, не знала я,
Что чем сильнее дергаешь, тем туже затягивается петля.
Приведенное стихотворение – типичный образец ранней газели, повествующей о превратностях любви. Оно увенчано изящным афоризмом и окрашено в дидактико-рефлективные тона. Близкие мотивы разрабатываются в одной из мистических газелей Сана'и (XII в.): Любовь – это бескрайнее море, а вода в нем – пламень,
Набегают волны, словно горы, объятые мраком…
Корабли [там] – печали, якоря там – терпение,
Паруса наполняются ветром несчастий.
Меня вопреки моей воле бросили в пучину морскую,
Как пример благородного, чье одеяние – любовь.
Раби‘а была двуязычным автором, и при том, что из ее наследия сохранилось сравнительно немного, именно ей принадлежит один из самых ранних образцов макаронического стиха (муламма‘, букв. «пестрый») в персидской классической поэзии:
Наполнила меня истомой стонавшая птица,
Обострила мою болезнь, усилила мои воспоминания[11].
Вчера ночью на ветке дерева та птица
Стонала и горестно рыдала.
Я спросила птицу: «Зачем ты стонешь и плачешь
В темной ночи, когда сверкают звезды?
Я в разлуке с другом, потому и стенаю,
Ты-то отчего стонешь? Ведь ты с милым другом…
Я пою, когда лью кровавые слезы,
Ты почему поешь, когда кровавых слез не льешь?»
Приведенный фрагмент воспроизводит один из излюбленных мотивов традиционных арабских насибов – разговор с птицей, имевший длительную историю бытования еще в доисламской и ранней исламской поэзии. Так, поэту Кайсу ибн ал-Мулавваху по прозвищу Маджнун принадлежит известное стихотворение, построенное как разговор с вороном. Возможно, на формирование образности стихотворения Раби‘и повлияла также и местная – иранская женская фольклорная лирика. Своеобразная поэтическая манера Раби‘и позволила Е.Э. Бертельсу выделить ее произведения, «проникнутые теплотой и искренностью», из общей массы придворной любовной лирики Х века.
Еще одним получившим широкую известность поэтом саманидского времени, родившимся, правда, уже после смерти Рудаки, был Абу-л-Хасан Киса'и Марвази (род. 963). Он считается одним из самых ранних мастеров жанра описания (васф), получившего широкое распространение в ХI в. в среде поэтов газнавидского круга. Вступления к его касыдам содержат сложные поэтические фигуры и метафорические бейты-«картинки», предвосхищающие стиль придворной поэзии более позднего времени:
Настал день и вытащил свой полированный щит,
А с неба полился камфарный (т. е. белый) свет,
Как будто бы подруга свои синие одеяния
Распахнула до самого пупка.
Солнце вступает в брак со звездой Каноп,
Когда от горизонта поднимает полированную голову.
Взгляни на отражение солнца, [на это] знамя мира:
Словно красное вино пролилось на лазурь,
Или это на лужайку фиалок бросила тень красная роза,
Или это лепесток тюльпана упал на зеленые всходы,
Или это яркий костер разожгли на Востоке,
Или это расстелили алую парчу.
Как видно из приведенного фрагмента, описание рассвета у Киса'и оставляет ощущение торжественности и праздничной нарядности, хотя по существу в нем не содержится целостной картины, а лишь многократно варьируется мотив появления первого луча восходящего солнца.
Киса'и открывает череду стихотворений, в которых так или иначе обыгрываются мотивы «Старческой касыды» Рудаки. В отличие от стихотворения Рудаки, где очевидны жанровые вкрапления самовосхваления и восхваления, текст Киса'и целиком выдержан в традиции «стихов о седине», для которых характерна элегическая тональность: поэт сетует на быстротечность человеческой жизни, на превратности судьбы, подчинившей его талант необходимости содержания многочисленного семейства:
До трехсот сорок первого года дошел черед,
Была среда, три дня оставалось до конца месяца шаввал,
Когда я пришел в этот мир, чтобы что сказать и что сделать?
[Чтобы] слагать песни и радоваться благам и богатствам.
[Но] подобно вьючному животному прожил я всю жизнь,
Став рабом своих детей и пленником семьи.
Что остается у меня от этих пятидесяти сосчитанных
полностью [лет]?
Книга отчета с сотней тысяч грехов и мечтаний.
В ранний период развития литературы на фарси практика составления подражаний или ответов на произведения предшественников (назира), видимо, еще не приобрела формального статуса, предполагавшего сохранение в стихотворении-подражании размера и рифмы первоисточника. При написании ответа речь могла идти о заимствовании мотивов образца, что и демонстрирует касыда Киса'и, в которой автор прибегает к сходным со стихотворением Рудаки грамматическим построениям (адресованные самому себе вопросы и ответы на них) и использует ту же лексику. Третий бейт совершенно очевидно содержит противительную интерпретацию одного из мотивов «Старческой касыды» – мотива необремененности поэта семейными заботами и тяготами («Не имел я ни семьи, ни жены, ни детей: от всего этого был я свободен»).
Сходство касыд Рудаки и Киса'и заключается также в стремлении актуализировать традиционные мотивы за счет введения в текст документальных деталей автобиографического характера. Рудаки указывает точные суммы вознаграждения за стихи, полученные им от многочисленных покровителей из окружения Саманидов, а Киса'и называет дату своего рождения и возраст, в котором он сложил данное стихотворение. По существу, мы имеем дело с одним из ранних случаев датировки лирического произведения.
10
Абу Са‘ид б. Абу-л-Хайр Майхани (967–1049) – видный представитель хорасанского суфизма, в своих проповедях широко использовал форму руба‘и.
11
Курсивом в переводе выделены те строки, которые в оригинале написаны на арабском языке.