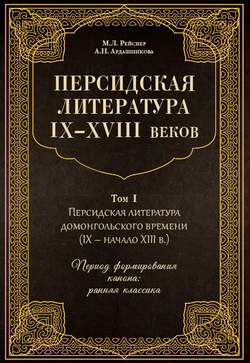Читать книгу Персидская литература IX–XVIII веков. Том 1. Персидская литература домонгольского времени (IX – начало XIII в.). Период формирования канона: ранняя классика - М. Л. Рейснер - Страница 9
Глава 1
Возникновение и развитие придворной поэзии IX – начала XII века
• Фаррухи
ОглавлениеВторым по значению поэтом Газнавидской школы был Фаррухи (ум. 1037/38). Родился он в Систане. Легенда гласит, что, будучи панегиристом при систанском правителе, поэт вознамерился жениться и потребовал повысить себе жалование. Получив отказ, он отправляется искать более щедрого патрона и оказывается при дворе наместника Чаганийана как раз во время весенних торжеств. Поэт декламирует касыду, сложенную по поводу своего переезда из Систана, в зачине которой содержится знаменитое описание труда поэта:
С караваном одежды отправился я из Систана,
С одеждой, сплетенной из сердца, сотканной из души.
С шелковой одеждой, которая по составу – из слов,
С одеждой, рисунок на которую [наносит] язык.
Каждая нить основы в ней с трудом извлечена из сердца,
Каждая нить уткá в ней с усилием вырвана из души.
В ней – приметы любых украшений, каких пожелаешь,
В ней – признаки любых новшеств, каких захочешь.
Не такова та одежда, чтобы ей нанесла вред вода,
Не такова та одежда, чтобы ей причинил ущерб огонь.
Не погубит ее цвета могильный прах,
Не сотрет ее рисунка круговорот времен.
Сердце свернуло ее споро и уложило,
А мысль заботливо приставило к ней сторожем.
Каждый час подавал мне благую весть разум:
«Эта одежда приведет тебя и к славе, и к достатку».
Эта одежда соткана не так, как другие одежды,
Не суди об этой одежде по другим одеждам.
Природа ее – язык, мудрость сучила нить, а разум ткал,
Рисовальщиком была рука, а от сердца в ней – изъяснение.
Закончив рисовать, [рука] над каждым рисунком написала
Хвалу Абу-л-Музаффару, шаху Чаганийана.
(Перевод М.Л. Рейснер и Н.Ю. Чалисовой)
Труд поэта осмысляется в этой касыде как ремесло, сродни ремеслу ткача и художника по ткани. Сложение стихов рассматривается как ткачество, а украшение поэтической речи фигурами интерпретируется как нанесение рисунка на шелк. Фрагмент содержит также своеобразную реализацию мотива «памятника», или извечности художественного слова, через образ одежды, не подверженной тлению.
Управляющий финансово-хозяйственной службой (кадхуда), которому Фаррухи представил эту касыду, не поверив, что бедно одетый поэт, «нескладный сизгинец», мог сложить столь прекрасную касыду, устраивает ему испытание и заказывает в короткий срок сочинить стихотворение, посвященное описанию праздника наложения тавра на молодых жеребцов. Исполнив заказ, Фаррухи декламирует касыду в высоком собрании и подтверждает свое мастерство, а в награду местный правитель вручает ему аркан и разрешает взять себе столько жеребят, сколько ему удастся поймать. Опьяневший на пиру стихотворец гоняется за молодыми скакунами по степи, пока не валится с ног вблизи какого-то забора. Пробудившись, он узнаёт, что заснул у загона, в котором находится много добрых коней. Весь двор поздравляет поэта с удачей, а сложенная им касыда позже будет приводиться как образцовая практически во всех средневековых антологиях персидской поэзии. Впервые же эта легенда была рассказана Низами ‘Арузи Самарканди в книге «Четыре беседы» (XII в.).
Касыда, получившая в иранистике название «Тавровой», представляет собой описание одного из торжеств, входивших, по-видимому, в число весенних ритуальных празднеств. Она начинается красочной картиной пробуждения природы, являющейся одним из самых ярких примеров весенней календарной поэзии (бахарийа) этого периода. Во второй части вступления содержится описание праздничного антуража, сопутствующего наложению тавра на молодых жеребцов из табунов эмира, которому посвящена касыда:
Перед шатром победоносного повелителя
Ради клеймения разложен костер, солнцу подобный.
Взвились языки пламени, словно полосы желтого шелка,
Горячи они, как нрав юноши, желты, как чистопробное золото.
Клейма похожи на ветки алых кораллов,
Каждый из них стал в огне, словно зернышко граната.
Чредою юные слуги, не знавшие сна, [подводят]
Одного за другим коней, не видавших тавра.
Вступительные части касыд Фаррухи достаточно разнообразны по содержанию. В Диване имеются зачины календарного содержания, а также пиршественные, охотничьи, траурные (например, известная касыда на смерть султана Махмуда Газнави) и др. На втором месте после любовных вступлений к касыдам стоят календарные зачины, посвященные основным иранским сезонным праздникам (Наурузу, Михргану, Сада). Развивая мотивы касыды Рудаки «Мать вина», Фаррухи воспевает осенний праздник Михрган:
Прилетел в сад ветер осени,
Закружился вокруг виноградной лозы…
Опять виноградарь ножом срезает лозу,
А нежнейшее дитя приносит в жертву.
Хоть и холодно лозе в убежище ветра,
Но он наносит вред разве что ее одежде.
Что милее тебе: дитя или одежда?
Конечно же, дитя милее…
Ушел жестокий виноградарь,
Разлучающий матерей с детьми.
Зачем нам печалиться об участи виноградной лозы!
Вставай и вкуси вина из тяжелых чаш!
От целостного мифологического «сценария», который лежал в основе касыды Рудаки «Мать вина», у Фаррухи остались лишь отдельные элементы – упоминание виноградной лозы и страданий ее чада выступает в качестве развернутой метафоры изготовления вина.
В других случаях ритуально-мифологическая первооснова стандартного календарного зачина оказывается более стойкой и легко обнаруживается, например, в поздравительных касыдах Фаррухи, посвященных Наурузу. Логическая модель зачина представляет собой повторение ритуала начала праздника, когда по обычаю к царю прибывал гонец, возвещающий о наступлении Нового года:
Ради поздравления с праздником Нового дня явился к шаху
Благословенный Сада – десятый день месяца бахман.
Неся весть о Наурузе эмиру, красавец
Триста шестьдесят суток скакал верхом по дороге.
Что за весть он принес? Принес он весть о том, что через
пятьдесят дней
Покажет свой лик Науруз и соберет [свое] войско на смотр.
По средневековым арабским источникам известно, что в соответствии с церемониалом царь и прибывший гонец должны были обменяться ритуальными вопросами и ответами, первым из которых был вопрос «Кто ты?» и «Откуда приходишь?», а последний – «Что ты приносишь?». Приведенный фрагмент касыды Фаррухи содержит все значимые элементы этого сценария: прибытие вестника, вопрос о цели прибытия и ответ на этот вопрос. Фаррухи использует подобный стандартный зачин также при описании праздника разговения после мусульманского поста, а также при описании воцарения султана Мас‘уда Газнави после смерти его отца Махмуда.
Еще одну модель стандартного зачина использует Фаррухи в касыде, сложенной на смерть султана Махмуда. Этот тип зачина применяется поэтами для описания различных бедствий и катастроф как природного (землетрясение в Тебризе в касыде Катрана), так и социального характера (смерть монарха в касыде Фаррухи, разорение государства захватчиками в касыде Анвари, падение нравов в касыдах ‘Абдаллаха Ансари и Сана'и). В таких касыдах, как правило, присутствует своеобразный «реестр» сословных страт и профессиональных категорий, представители которых в условиях катастрофы нарушают общепринятые нормы поведения.
Город Газна [нынче] не таков, каким я его видел в прошлом
году. Что же случилось, из-за чего все изменилось в этом году?
Дома, вижу я, полны причитаний, криков и стонов,
[Таких] причитаний, криков и стонов, которые терзают душу.
Улицы, вижу я, полны смятения, улицы от края до края
Полны волнения, и всё это волнение – из-за отрядов всадников.
Торговые ряды, вижу я, полны народа, а двери лавок
Все заперты и заколочены гвоздями.
Дворцы, вижу я, оставлены знатью –
Все до одного из предместий отправились в укрепленный город.
Вельможи, вижу я, ударяют себя по лицу, словно женщины, –
От кровавых слез их глаза стали походить на цветы граната.
Привратники, вижу я, удручены и облачены в черные одежды,
Один [обнажил] голову, скинув шапку, другой – сняв чалму.
[Почтенные] госпожи, вижу я, вышли из своих покоев на
улицу,
У ворот на площади [стоят] они, плача и рыдая.
Учителя, вижу я, отставили чернильницы,
Руками схватились за голову, бьются головой о стену.
Сборщики налогов, вижу я, опечаленными вернулись со
службы,
Ничего не делают и не идут в «счетный диван»[19].
В дальнейшем «реестр» социальных страт и профессий может не только существенно разрастаться, как, например, у Сана'и, но и подвергаться различным трансформациям, как у Анвари или Хакани.
Отметим, что канон персидской касыды приобретает достаточную определенность уже в творчестве газнавидских поэтов: например, в зачинах большинства касыд соблюдается известное сочетание повествовательных и описательных элементов, которые каждый автор волен подбирать в индивидуальных пропорциях. Касыда Фаррухи, начинающаяся словами «О ты, постоянно расспрашивающий меня о моей истории (кисса)…», построена на мотивах благодарности (шукр) султану за щедрый дар – быстроногого скакуна – и рассказывает об обретении поэтом высокого статуса. Она выдержана в повествовательной манере, содержит элементы диалога и некоторое количество описательных мотивов, связанных с богатым и праздным образом жизни (красавицы-наложницы, резвые скакуны, удобное жилище, амбары, полные припасов). В этой же касыде ярко выражены идеи «вассальных» отношений между восхваляющим (мадих) и восхваляемым (мамдух). Вот что говорит Фаррухи о смысле самой процедуры дарения:
Этот конь – не просто конь, а источник гордости.
Я обрел право гордиться и защиту от позора…
Недруг, увидевший меня верхом на этом резвом скакуне
пегой масти,
Потерял выдержку и не мог скрыть огорчения.
Сказал он: «Походишь ты на эмиров и предводителей войска.
По необходимости должны быть у тебя шапка и кушак».
Ответил я: «Откуда ты знаешь, что родит темная ночь.
Прояви терпение и дождись, пока ночь принесет плоды».
Считая себя достойным оказанных почестей, поэт, тем не менее, предостерегает завистника от излишней поспешности в выводах и делах. Назидательный фрагмент касыды, внешне адресованный недоброжелателю (завистнику – хасид), который вместе с восхваляемым и восхваляющим является одним из постоянных персонажей панегирической поэзии, находится в непосредственной близости от восхваления. При таком соседстве дидактические мотивы могут быть частично истолкованы и применительно к адресату панегирика. В ряде панегирических касыд таким способом достигается особая связь вступительных частей с восхвалением, благодаря чему возникают дополнительные возможности прочтения хвалебных мотивов в назидательном ключе.
Фаррухи часто в касыдах именует себя «певцом газелей» (газал-хан), то есть связывает свое творчество преимущественно с любовной темой. Возможно, поэт имел в виду и обычай исполнения лирических стихов под музыкальный аккомпанемент, и то, что сам он прославился не только как поэт, но и как певец и музыкант-виртуоз. Помимо развернутых любовных вступлений к касыдам в диване Фаррухи есть и самостоятельные газели, в которых уже представлены все внешние признаки этой поэтической формы, за исключением постоянной подписи поэта в последнем бейте. Эти стихотворения по традиции включались в раздел кыт‘а, однако и по тематике, и по ряду формальных особенностей они могут быть причислены к категории ранней газели (протогазель). Газели Фаррухи стилистически отличаются как от насибов касыд, так и от образцов любовной лирики малых форм, датируемых Х в.
Объектом описания в газельной лирике Фаррухи становятся стандартные ситуации любовных отношений – разлука и свидание, ссора и примирение, выпрашивание поцелуя или шутливая перебранка влюбленных, а не портрет красавицы, соотнесенный со страданиями лирического героя. Многие газели Фаррухи представляют собой своеобразные жанровые сценки, нередко выдержанные в лукаво-юмористических тонах. Примером такого стихотворения может служить газель об игре в нарды:
Выиграл я у подруги в нарды поцелуй,
Она смешала фишки и покраснела.
Румянец на щеках той луноликой
Бросил на мои щеки две чайные розы.
Она то покусывала тыльную сторону ладони,
То вздыхала тяжко.
Я сказал [ей]: «О милое дитя, к чему сердиться,
Мы ведь играли на поцелуй!»
Она ответила: «Не из-за нардов я плачу,
19
Диван – совет высших чиновников при султане; здесь, видимо, имеется в виду государственное казначейство, куда поступали собранные налоги.