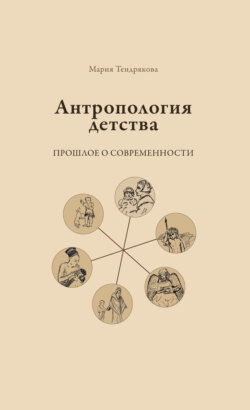Читать книгу Антропология детства. Прошлое о современности - М. В. Тендрякова - Страница 7
Введение
Наука о детстве
Школа «Культура и личность»
ОглавлениеШкола «Культура и личность» родилась на стыке этнологии и психоанализа, и во главу угла понимания культуры были поставлены психоаналитические, по своей сути, посылы: понять происхождение культуры и феномены социальной жизни можно только через индивидуальную психологию; культура – это абстракция, подлинной эмпирической реальностью является личность; изучая формирование личности, мы поймём культуру; но, чтобы понять личность, по З. Фрейду, надо углубиться в детство.
Психоанализ З. Фрейда представил детство важнейшим этапом формирования личности, а ранний опыт – источником бессознательных тревог, комплексов, фрустраций – всего того, что в течение последующей жизни будет влиять на отношения с окружающими людьми и обществом в целом, проявляясь в душевных расстройствах или разнообразных «психопатологиях обыденной жизни». Ранее развитие ребёнка рассматривалось преимущественно как естественный природный процесс, обусловленный прежде всего внутренними факторами. Психоанализ же заставил обратить внимание на отношения между родителями и детьми, на прессинг социальных запретов, тем самым сместив акцент с биологии на перипетии взаимоотношений ребёнка со взрослыми.
Так поиски общей теории культуры при помощи психоанализа заставили обратиться к исследованиям детства.
Возглавил Школу «Культура и личность» практикующий психоаналитик А. Кардинер. При Колумбийском Университете (Нью-Йорк) был организован семинар, в котором принимали участие и психиатры, и социальные антропологи.
А. Кардинер ввёл понятие базовой личности, которая всецело определяется ранним опытом, теми переживаниями и отношениями с окружающими людьми, которые выстраиваются в самые первые годы жизни.
Как протекает детство той или иной культуры: как пеленают, как кормят, как родители отзываются на детский плач, учат ли ходить, наказывают ли за мелкие провинности, проявляют ли ласку, потакают ли ребёнку или держат в строгости? При появлении маленького братика или сестрички старшему ребёнку начинают уделять меньше внимания. Старшего отлучают от груди – надо следующего выкармливать. У него возникает фрустрация и копится обида. Резкое отнятие от груди порождает «оральную тревожность»; продолжительный физический контакт с матерью – почва для развития Эдипова комплекса – из всего этого прорастает базовая личность. Базовая личность представляет собою своего рода психологическую «матрицу», по которой отстраивается культура в целом.
Ряд антропологов, Рут Бенедикт, отчасти М. Мид, Э. Голдфранк, М. Оплер, вооружившись психоанализом в качестве основной методологии, сфокусировались на практиках обращения с ребёнком в разных культурах. Впервые мир детей и женщин попал в зону внимания этнологов-антропологов. Был преодолён так называемый андроцентризм старой этнологии, которая исследовала только «мужской» мир, системы жизнеобеспечения, обычаи и ритуалы, материальную культуру. Этнограф-мужчина, даже если бы ему пришло в голову поинтересоваться родильными обрядами или уходом за младенцами, стал бы объектом насмешек, мужчины племени никогда больше не впустили бы его в свой круг.
В духе Школы «Культура и личность» английский антрополог Джеффри Горер (Geoffrey Gorer, долгое время работал в США) выдвинул знаменитую гипотезу тугого пеленания. Анализируя русский национальный характер, Дж. Горер предположил, что противоречивость русской натуры и перипетии русской истории связаны с практикой тугого пеленания младенцев, долгий период смиренной скованности сменяется бурным взрывом эмоций, сдержанность и покорность – революционным бунтом.
Русские покорны и долготерпеливы, а потом, как распелёнутый младенец, резко взрываются. Тугое пеленание выступает как модель поведения, прививаемая с детства русским. Вокруг этой идеи тугого пеленания и того, как оно влияет на национальный характер, велось в своё время множество дискуссий в связи с психологическими особенностями разных народов.
Итак, с весьма спорного посыла о детстве как «демиурге» культуры (что позже было не без иронии названо «пелёночным детерминизмом» и было подвергнуто серьёзной критике (Токарев 1978) началась этнографиядетства как особое направление социальной антропологии, родившееся как междисциплинарный синтез этнологии/социальной антропологии, психологии и психоанализа в начале ХХ века в США.
Исследователям Школы «Культура и личность» удалось преодолеть биогенетическую предопределённость развития ребёнка, но на смену ей пришёл психосексуальный детерминизм по З. Фрейду.
В 1950-е годы формируется и набирает силу новое направление науки, которое, с одной стороны, заявляет о преемственности Школе «Культура и личность», а с другой, критически пересматривает её научное наследие – психологическая антропология.
Психологическая антропология несколько отступила от пансексуализма Фрейда. В центре внимания оказывается исследование механизмов и институтов социализации, изучение того, как общество воспитывает ребёнка, как вводит его в мир культуры и какие модели поведения ему предлагает. Тезис о примате личности над культурой был снят, личность – это «культура, отражённая в индивидуальном поведении».
Этнография детства показала, что в разных культурах, в разных обществах дети обучаются различным навыкам, усваивают разные истины, играют в разные игры. Детство – это не только этап онтогенеза, но и культурно-исторический феномен. Эта мысль, столь понятная и даже очевидная сегодня, для первой половины ХХ в. была открытием.
В отечественной этнологии/этнографии тема детства после долгих лет молчания зазвучала во многом благодаря усилиям И.С. Кона. Под его редакцией вышла серия сборников «Этнография детства» (1983–1992 годы) и вышел томик работ М. Мид «Культура и мир детства» (1988), которые показали многообразие миров детства.