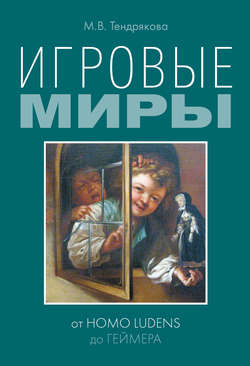Читать книгу Игровые миры: от homo ludens до геймера - М. В. Тендрякова - Страница 18
Часть II. Традиционные игры на границе миров
Глава 3. Живое наследие старины в игре
Оглавление…взятый прямо из жизни вымысел.
Л. Оршанский
Со временем сакральная составляющая игры отступает на второй план, забывается или явно не осознается. Но, несмотря на это, игра в культуре не сдает своих позиций, она обретает новые формы и завоевывает все новые жизненные «ниши», простираясь от сферы сакрального до виртуальной реальности. Игры XXI в. в большинстве своем генетически единосущны древним играм, как современный футбол – культовой игре в каучуковый мяч, распространенной у древних майя и ацтеков (Кинжалов 2005: 14–17), или электронный тотализатор – тому вырезанному из камня игровому аппарату, что был найден на раскопках Вавилона, в котором ставки разыгрывались при помощи разноцветных шариков (см. рис. 8), или же как древняя антропоморфная фигурка – кукле Барби.
Грани прошлого в настоящем
Прошлое во многом благодаря играм присутствует и продолжает жить в дне сегодняшнем. У игры есть чудесное свойство сохранять и проносить сквозь века фрагменты прошлого, причем не в виде «окаменелостей», а в виде живого актуального действа, прекрасно вписавшегося в новый социально-исторический контекст.
В игре прошлое представлено, по меньшей мере, тремя своими гранями:
во‑первых, это сами архаичные игрища и / или культовые действия, понизившие свой сакральный статус, сменившие обличье, но дошедшие до нас в виде традиционных игр. Игры оказываются прибежищем забытых, ушедших или даже изгнанных и запрещенных культов;
во‑вторых, это ушедшие из жизни и утратившие свое изначальное значение элементы культуры и предметы культа, которые профанируются и обретают свою новую жизнь в нише игры – как, например, юла, погремушка, трещотка, куколка (об этом еще пойдет речь в разделе об игрушках и куклах);
и в‑третьих, это образ мысли и миропонимания, который несет в себе игра, и это последнее, едва ли не наиболее живучее наследие прошлого.
Хранители «обветшалой обрядности»
На почтенный возраст многих забав и развлечений обратили внимание еще исследователи XIX в. В энциклопедической статье Брокгауза и Ефрона констатируется, что многие игры как великороссов, так и малороссов «являются результатом обветшания обрядности и превращения ее в игру» (Брокгауз, Ефрон 1903. Т. XXXVII (74): 576). Те же качания на качелях, хороводы и вышеупомянутые игры в мяч. Игры в мяч или шар упоминаются в «Ригведе». Они были любимым развлечением древних греков, равно как и качели. Один из праздников афинян так и назывался «качели» и проводился в память об Эригоне (Бек-де-Фукьер 1877: 58–68). Игры в «мячище» в славянской традиции сопровождали весенние и летние праздники славян, входили в свадебную обрядность (Бернштам 1984). Хороводы, воплощавшие идею вечного движения, движения солнца, кружения «посолонь», сопровождавшие все этапы и основные события аграрного цикла, «именины земли-матушки» на семицкой неделе, конец лета и начало сбора урожая, первый после зимы выгон скота на пастбище, в XIX в. уже стали просто танцами, став в один ряд с плясовыми и кадрилями. (Морозов, Слепцова 2004: 168–169). А во второй половине ХХ в. и вовсе остались только в виде незамысловатой детской игры для самых маленьких.
В детских играх могут сохраниться даже вышедшие из обихода культурные навыки, например, добывание огня сверлением (Харузина 1912). Изживающие себя обычаи перестают быть серьезными ритуалами и превращаются в игрища, как это произошло с язычеством древних славян (Велецкая 1978: 68, 93–94, 119). Кудесы, одно из имен языческих жрецов, становится названием ряженых, а островерхая жреческая шапка превращается в неизменный атрибут скомороха (см. Лихачев и др. 1984; Морозов, Слепцова 2004: 543–562; см. рис. 6).
Во многом именно в силу своих языческих истоков традиционные народные игры в течение многих веков преследовались церковью и светской властью. На Руси первые осуждения народных игрищ и зрелищ с участием скоморохов начали появляться в XIII в. Новгородцы в XIV в. даже крест целовали, обещая отвадиться от подобных забав, но не соблюли обета (Власова 2001: 11). Далее отрицательное отношение церкви и светских властей к подобного рода развлечениям всё более и более набирало силу: «церкви пусты, а гульбища утоптаны», «в церковь идти, то дождь, то жарко, то холод, а на бесовское игрище всегда горазды», «потекут, аки крылаты». Стоглавый Собор 1551 г. запрещает скоморохам появляться на свадьбах и похоронах, участвовать в святочных гуляниях, а также требует «в домах, на улицах и в полях песен не петь, по вечерам на позорища не сходиться, не плясать, руками не плескать… то есть, в хороводы не играть… на святках в бесовское сонмище не сходиться, игр бесовских не играть… загадок не загадывать… такими помраченными и беззаконными делами душ своих не губить, личины (хари, маски) и платье скоморошеское на себя не накладывать, олова и воску не лить; зернью, в карты и в шахматы не играть; на Святой на досках не скакать, на качелях не качаться… медведей не водить, с собаками не плясать; кулачных боев не делать, в лодыги (в бабки) не играть; не говоря уж о ворожбе, чародействе и всяком мирском суеверии» (Забелин 1915: 291). В перечень запретных занятий входят и интеллектуальные шахматы, и азартные игры в карты, кости, альчики – все они пришельцы из прошлого и все они приравниваются к чародейству.
Видимо, запреты не возымели должного действия, и сто лет спустя царская грамота 1648 г., а вслед за нею и грамоты митрополитов снова призывали православный мир уняться от неистовства, отказаться от тех же игр, скаканий и гаданий и увеселений со скоморохами: «чтобы… зернью и картами и шахматами и лодыгами не играли… чтоб православные крестьяне от такова от бесовскаго действа отстали», а вместо этого «к церквам Божиим к пению приходили, и у церкви Божий стояли смирно, меж себя в церкви Божий в пение никаких речей не говорили, и слушали б церковнаго б пения со страхом и со всяким благочестием», ослушникам же грозили батогами, ссылкой и отлучением от церкви[9]. Олеарий описывает, как по приказанию патриарха по Москве собрали пять возов музыкальных инструментов, «гудебных сосудов», свезли всё это за Москву-реку (на Болото – место казни преступников) и сожгли (Забелин 1915: 292–293).
На рубеже XV–XVI вв. в Западной Европе также последовательно и повсеместно вводятся запреты на народные гуляния, танцы, карнавалы, а нарушители запретов караются (Гуревич 1987: 24, 30; Ирзиглер, Лассота 1987: 205–219; Даркевич, 1988: 220–224).
Это наступление на всякого рода развлечения связано с религиозными и политическими реформами и неотделимо от наступления на остатки язычества. Для идеологии и духа Нового времени было неприемлемо не только само язычество, но и свободное манипулирование нормами и символами, игровые метаморфозы «верха» и «низа», жизни и смерти, святого и богохульного. Но традицию не так-то просто прервать, а тем более отменить по приказу.
По мере наступления христианства на смеховую культуру и по мере усиления различных форм социального контроля архаичные игрища находят себе новые ниши для существования, где социальный контроль не столь строг (Лихачев, Панченко, Понырко 1984). Гонимая и отвергаемая новой исторической эпохой старина уже в виде развлечения, забавы, игр и игрищ уходит еще дальше на «периферию» культуры.
9
Цит. по: Белкин А. А. Русские скоморохи. М.: Наука, 1975. URL: http://www.bibliotekar.ru/rus/16–5–4.htm. Дата обращения: сентябрь 2014.