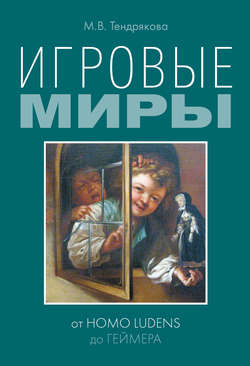Читать книгу Игровые миры: от homo ludens до геймера - М. В. Тендрякова - Страница 4
Часть I. Рождение игровых миров
Глава 1. Три стратегии понимания игры
Игра в центре исследовательских интересов
ОглавлениеПервыми системными исследованиями феномена игры стали вышедшие одна за другой книги немецкого философа Карла Грооса – «Игра животных» (1896) и «Игры людей» (1899) об игре детей в первые годы их жизни. В них К. Гроос выдвинул теорию «предупражнения инстинктов», он показал, как в игре отрабатываются и совершенствуются данные от природы навыки, необходимые во взрослой жизни, и идет подготовка к решению задач завтрашнего дня (см. Миллер 1999; Эльконин 1978: 66–67). Эти работы имели широкий резонанс, и в течение нескольких десятилетий теория предупражнения, хотя и с различными оговорками, была господствующей[6]. В этот период представление о биологической целесообразности игр и единой природе игр детей младшего возраста и игр животных не вызывает сомнения. Игра ассоциируется с детством: «…для того и дано детство, чтобы мы могли играть», – по формуле К. Грооса, детство нужно, чтобы обучиться тем сложным видам поведения, которые понадобятся позже (цит. по: Эльконин 1978: 67). И даже Ф. Бойтендайк, опровергая уже в 1930-х гг. «предупражнение инстинктов», выводит игру из особых психологических черт, присущих детству: «существо играет, потому что оно молодо» (Эльконин 1978: 77). То есть философы и психологи конца XIX – начала XX в. ставили знак равенства между игрой и детством, и на этом основании сближали игры маленьких детей и игры молодых животных.
В этот же период американский психолог, признанный авторитет педологии Г. Ст. Холл так же, но сугубо по-своему, смело сравнивает игры детей с играми животных. Во главу угла своей теории развития ребенка он поставил выведенный Геккелем-Мюллером биогенетический закон, что онтогенез есть краткое повторение филогенеза, но Г. Ст. Холл распространил эту закономерность не только на эмбриогенез, но на развитие ребенка и историю общества: стадии развития ребенка повторяют жизнь его далеких предков. Так, в детских играх и увлечениях последовательно реализуются занятия обезьяноподобных предков и охотничьи инстинкты первобытных людей. В этом свете детские игры представали как рудименты далекого прошлого, то, что изживает ребенок, становясь «полноценным» человеком. На представление об игре как сфере, где реализуются запретные влечения, безусловно, повлиял психоанализ. Сам З. Фрейд не занимался исследованием игр, для него детская игра представлялась лишь одной из сфер, где вытесненные желания могли реализовать себя, в обход тех барьеров, что возвела на их пути культура.
Научным событием международного масштаба и новой страницей в истории исследования игровой деятельности стало появление знаменитого труда Й. Хейзинги “Homo ludens”, вышедшего в 1938 г. В нем игра предстает одним из важнейших механизмов порождения культуры в целом, а «человек играющий» – не праздным персонажем, коротающим случайные часы досуга, а своего рода «демиургом» самых различных сфер деятельности от юриспруденции и искусства до спорта.
В середине ХХ в. игра интересует мир науки не только как достойный объект историко-этнографического исследования, но и как категория бытия (например, вышеупомянутые «языковые игры» в философии постмодернизма, которые порою распространяются на всё пространство культуры), как альтернативная реальность, как психологический прием и стратегия поведения и, наконец, как ключ к пониманию социокультурных феноменов. В 1958 г. выходит работа Р. Кайуа «Игры и люди», где французский социолог представляет основы социологии, основанной на играх (к этой работе мы еще не раз будем обращаться). В 1961 г. выходит книга Э. Л. Берна «Игры, в которые играют люди», где игра выступает как ключевое понятие при анализе психологии личности: строя отношения с другими людьми, человек действует как точный и расчетливый игрок, следуя сценарию избранной роли, а игровое поведение превращается в тактику достижения желаемых результатов. Казалось бы, человек просто применяет игровые приемы, но, в конечном счете, затеянная им игра оборачивается прожитой жизнью с ее реальными бедами и победами.
Тема игры стала одной из приоритетных в науках о человеке и обществе, но все эти эмпирические работы и теоретические обобщения по-прежнему преследует вопрос: что есть игра?
В самых общих чертах поиски ответа на вопрос что есть игра можно представить в виде нескольких основных стратегий, которые условно можно назвать «стратегия полезности», «стратегия удовольствия» и «стратегия поиска и преобразования реальности».
6
О самой теории К. Грооса и дискуссии, развернувшейся вокруг нее, см. подробнее: Эльконин Д. Б. Психология игры. М., 1978. С. 65–92.