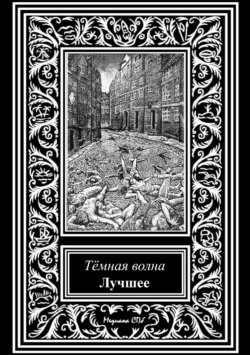Читать книгу Темная волна. Лучшее - Максим Кабир - Страница 9
Дмитрий Костюкевич
Перила выщербленной лестницы
N 6
ОглавлениеСолдат с усилием повернул блокирующий маховик, затем отошёл в противоположный конец «приёмного покоя» и замер по стойке смирно у другой двери, менее массивной и надёжной.
Через какое-то время доктор Виль Гур придвинул к себе карточку наблюдения и вписал: «День № 1. Камера запечатана. Объекты изучают обстановку, беседуют». Точно такой же бланк (пока ещё пустой) лежал на столе перед доктором Ренатом Фабишем. Утром все записи перенесут в дневник, на основании которого после заполнят протокол, раздел «Ход эксперимента». Как скоро это случится? Через пять дней? Десять?
Фабиш не писал. Неотрывно смотрел сквозь толстое стекло, будто боялся пропустить что-то важное. Происходящее в камере не располагало к подобному ожиданию. Испытуемые лежали или сидели на кроватях, объекты № 2 и № 5 листали книги. Ничего интересного. Вначале почти всегда так: тишь да гладь.
В «приёмный покой» смотрели окна трёх камер. В просторном помещении находились двое военных и четверо наблюдателей (три врача и психолог), внимание которых было сосредоточено на центральной камере.
Гур рассматривал подопытных – людей в серых робах с номерами на груди и спине. Объект № 1, бритоголовый, круглолицый, с родинкой над правой бровью, лежал на тонкой жёсткой подстилке, прижав руки к груди. Объект № 2, бородатый, с проседью, похожий на последнего русского царя, листал потрёпанный томик, кажется, Островского. На соседней кровати сидел объект № 3, широкоплечий шатен с выдвинутой вперёд нижней челюстью и узким носом. Рядом, на полу, устроился объект № 4, курчавоволосый, с оттопыренными ушами и мясистыми губами. Испытуемые разговаривали, объект № 3 улыбался неровными зубами. Эта улыбка притягивала взгляд доктора, она походила на смех во время панихиды. Объект № 5 имел вытянутое лицо и близко посаженные к носу глаза. Отложив книгу, он часто тёр кулаком рыжую щетину и поглядывал на дверь.
Помимо кроватей в камере было пять стульев, раковина и туалет – дыра в бетонном полу за невысокой перегородкой. Вдоль левой стены высились стопками книги, стояли коробки с сухим пайком. Запас еды был рассчитан на месяц: галеты, мясные и овощные консервы, концентраты первых и вторых блюд, чай, сахар. Подача к крану кипятка осуществлялась под контролем одного из наблюдателей.
Объекты лежали, сидели, читали, разговаривали.
Пока – рутина.
Гур посмотрел в потолок. Лампы светили с едва различимым электрическим шепотком, щедро и ярко, но казались холодными, как глаза подводных хищников.
Гур моргнул и опустил взгляд. На столе перед ним лежала не карточка наблюдения, а наган, блестящий в свете комнатного прожектора, с цельным затылком рукояти. Над револьвером маячило одутловатое лицо следователя: «Сама знаешь, в чём виновата, рассказывай!» – «У меня давление», – не открывая рта, ответил Гур. «Мы тебе, гадина, такое давление сделаем! К стене прикрутим – глаз, сволочь, неделю не сомкнёшь! Или хочешь в карцер без жёрдочки? Что, забыла уже?» Он не забыл. Помнил несколько ужасных минут в тесном ящике, без света, без понимания, за что, как, навсегда, замуровали? «У, паскуда!» Следователь замахнулся пресс-папье, передумал, швырнул на стол, надвинулся, вытянув руки, словно хотел вцепиться в лицо…
Гур дёрнулся и, моргая, отёр лоб рукавом халата. На белой ткани остались тёмные пятна. Заметил ли кто, что он… отключился?
– Ты как? – спросил Фабиш. Увидел что-то на его лице?
– В порядке.
Коллега кивнул и отвернулся.
Гур глубоко вдохнул, медленно, незаметно. Выдохнул. Сердце успокаивалось. Вдохнул, выдохнул.
Психолог, Виктор Чабров, постукивал по бланку карандашом.
– Уровень потребления кислорода в норме, – объявил Михаил Саверюхин, третий врач смены.
Чтобы объекты не спали, к кислороду, подаваемому в камеру через вентиляционное устройство, подмешивали экспериментальный газ, «вещество № 463», или «будильник», как его называли в группе. В больших дозах «будильник» был токсичен, проверни вентиль до упора – и бесцветное вещество, бегущее по вмонтированной в стену трубе, превратится из стимулятора в палача.
Исследовательскую группу создали для изучения последствий долгого бодрствования. Испытуемым пообещали свободу, если они не заснут в течение тридцати дней. Фабиш нарёк камеру Храмом Бессонницы.
За «приёмным покоем» наблюдал дежурный. Он сидел в отдельной комнате и отвечал за то, чтобы у окон камеры оставалось как минимум два сотрудника, когда другие едят, курят или справляют нужду.
– Как думаешь, когда назад попросятся? – спросил Гур.
Из головы не лезли сроки: сколько выдержат объекты?
– Назад? – шёпотом переспросил сидящий слева Фабиш, высокий и тонкий, точно обкорнанный ствол дерева. – В лубянскую приёмную? В лагерь?
Подопытных отобрали из политзаключённых.
– И всё-таки?
Фабиш сосредоточился на окне камеры. Над изголовьями кроватей были установлены микрофоны. Два раза в сутки подопытные должны были докладывать о своём самочувствии.
– Неделя. А что скажет доктор Виль?
– Накину три дня, – ответил Гур.
Ошиблись оба.
* * *
Пройдя длинным безглазым коридором, отделённым от лестницы железной дверью, Гур поднялся наверх, показал охраннику пропуск («Разверните!» – «Конечно») и вышел на улицу.
Через сто метров он по привычке обернулся. Лабораторный комплекс состоял из двух пятиэтажных корпусов, соединённых галереей. Аляповатые козырьки над входами, тёмные окна и двери, гербы на фасадных досках. Здание больше напоминало проектный институт. Для обычных москвичей оно и было проектным институтом. Зайди внутрь – и попадёшь в просторный вестибюль: будка с вахтёром, горшки с кактусами и фикусами, диван у окна, доска почёта с сытыми лицами. Незваные гости случались редко. Видимо, аура.
Метро было рядом, до дома пять остановок, но доктор решил пройтись пешком. По городу катились скинувшие кожуру каштаны, прямо в проворные руки детворы. Пахло близкой грозой.
Комплекс имел два подземных этажа. Камера с политзаключёнными, участвующими в эксперименте со сном, находилась на минус втором. Во время войны в лаборатории в основном занимались исследованиями токсинов и газов, а также медицинскими экспериментами. Именно здесь Гур пересидел войну.
Отец, гимназический учитель литературы, умер в сороковом от рака. Он одним из первых признал советскую власть и боготворил Ленина, что хорошо иллюстрировало имя сына. Виль – красивое, вёрткое, как движение рыбьего хвоста в воде. Мать, секретарь у детского писателя, умерла в эвакуации, на руках у Любы, сестры Виля: сердце не выдержало жары, голода и поездов.
Он открыл дверь квартиры и спрятал ключ в карман брюк. На площадке шумно остановился лифт, с металлическим треском раздвинулись двери, но Гур уже юркнул в прихожую.
Под ногами повизгивал паркет, будто под отдельными досками застряли отъевшиеся крысы. В комнате сестры горел свет. Гур прошёл коридором в гостиную, включил торшер и сел за круглый стол, покрытый кружевной скатертью. Через пыльный абажур лился тревожный рассеянный свет.
Трёхкомнатная квартира располагалась недалеко от станции метро «Красные ворота». Отец долго работал над дореволюционной атмосферой, суть которой ускользала от Виля. Буфет с ленинградским фарфором (тонкие чайные чашечки звенели звонко и горестно, если их потревожить ложкой), телевизор, картины. Почётное место в комнате занимал книжный шкаф; Гур наткнулся взглядом на томик Островского и поспешно отвёл глаза.
Он встал, снял пиджак, прошёл на кухню и поставил на огонь чайник.
Два часа спустя Гур лёг на постель. Закрыл глаза, через минуту открыл, встревоженный чем-то ускользающе-назойливым, откинул одеяло и поднялся.
Квартира мариновалась в темноте. В коридоре Гур понял: дверь в Любину комнату не очерчивал светящийся контур. Он на ощупь добрался до туалета, щёлкнул выключателем и отдёрнул шторку, скрывающую полки за унитазом. Осталась последняя лампочка. Гур прихватил пассатижи – вдруг лопнула колба и придётся повозиться с цоколем.
Не пришлось.
Никелированная заправленная кровать, этажерка, перекинутое через спинку стула тёмно-зелёное платье… Поспешно заменив лампочку, он притворил за собой дверь, глянул на живые жёлтые линии в щелях, кивнул и направился в свою спальню. Пассатижи и картонную упаковку с перегоревшей лампочкой положил на прикроватную тумбочку. Залез под одеяло, вспомнил, что не выключил в туалете свет, но возвращаться не стал.
* * *
Динамики транслировали дикий вопль.
Орал объект № 2. Испытуемый носился по камере и кричал, не от страха или боли – так, как кричат сумасшедшие. Голос возрастал до громогласного рёва, на мгновение спадал в жалобный скулёж и тут же снова усиливался. В бороде заключённого блестели кровавые проплешины, лицо «русского царя» побелело, огромные глаза напоминали рыбьи пузыри – ещё чуть-чуть, и вывалятся на щёки. Пол устилали страницы из растерзанного томика Островского.
Представление длилось без малого три часа.
Виль Гур пробежал глазами по записям в карточке наблюдения: «День № 10. Объекты по-прежнему находятся в состоянии тяжёлой паранойи… 11.23. Объект № 2 без видимых на то причин истошно завопил, вскочил с кровати и принялся бегать по камере… 12.30. Объект № 2 не останавливается: мечется от стены к стене, кричит. Остальные объекты безостановочно шепчут в микрофоны…»
За спинами наблюдателей открылась дверь, стоящие по обе её стороны военные отреагировали на вошедшего доктора Саверюхина одними глазами. Саверюхин поставил на стол стакан с бледно-жёлтой жидкостью, в которой плавали кусочки чайных листьев, и, глядя в окно камеры, невесело улыбнулся.
– Долго он.
– Долго, – подтвердил психолог Чабров.
– Этот рёв действует на нервы, – ворчливо заметил Саверюхин, словно другие получали от происходящего за десятисантиметровым стеклом наслаждение. – Можно ещё тише?
Доктор Фабиш прикрутил громкость.
– Не настолько же, – сказал Чабров, поправляя очки. – Ничего не слышно.
Фабиш добавил громкости. В динамиках шуршали лишь голоса объектов № 1, № 3, № 4, № 5: докладывали на товарищей. Объект № 2 припадочно рикошетил от стен Храма Бессонницы, его красное лицо окончательно уродовал перекошенный в крике рот, но самого крика не было. Точнее был – немой.
– Порвал голосовые связки, – сказал Фабиш. – Концерт закончен.
Гур кивнул, думая о том, что во время войны в центральную камеру подавали токсин. Голые стены – ни кроватей, ни стульев, ни раковины, ни микрофонов. Пленные в клубах жёлто-зелёного газа.
Он хотел записать о том, что объект № 2 повредил голосовые связки, но стержень, как и голос подопытного, закончился. Гур стал раскручивать ручку. Глаза неотрывно следили за камерой.
Через динамики в «приёмный покой» снова хлынул крик.
– Смена солиста, – сказал Фабиш.
Гур бросил на него косой взгляд.
Примеру объекта № 2 последовал объект № 4. Лопоухий испытуемый взобрался с ногами на кровать, коршуном навис над микрофоном, вцепился ногтями в щёки и испустил страшный вопль. Мясистые губы затряслись. Затем объект № 4 спрыгнул на пол и закружил по камере, странным образом не сталкиваясь с онемевшим товарищем. Он хватал книги, подносил к лицу и кричал в обложки, будто в лица прохожих…
Вот оно как пошло, отстранённо подумал Гур.
Вначале объекты вели себя повседневно, спокойно. Общались, читали книги, совместно принимали пищу. На третий бессонный день в разговоры стали проникать мрачные нотки: делились неприятными воспоминаниями, перекидывались пессимистичными размышлениями. Ничего из ряда вон – не на курорт попали.
На пятый день подопытные прекратили контакты друг с другом. Депрессию утяжелила паранойя. Прилипнув к микрофонам, объекты изливали жалобы на жизнь, шептали о предтечах их заключения, стучали на сокамерников. «Умственное безумие», как называли паранойю психиатры девятнадцатого века, нарастало. Саверюхин первым высказал предположение, что причина в воздействии «вещества № 463», газа-стимулятора. Чабров охарактеризовал такое поведение испытуемых как странное и нетипичное. Доктора согласились: необычный, мягко говоря, способ расположения к себе экспериментаторов.
Когда начал кричать объект № 2, остальные заключённые обратили на это не больше внимания, чем на ползущую по стене муху.
Рёв объекта № 4 перешёл в жуткий, лишённый эмоций смех.
– Что-то новое, – с присущим ему угрюмым сарказмом заметил Фабиш. – Как вам этот смех, коллеги?
– Не привыкать, – равнодушно пожал плечами Саверюхин, но в движении проскользнуло беспокойство. – Сломались ребята.
– Газ доконал, – сказал Гур.
– Ждём скорого визита начальства, – произнёс Чабров.
Над сотрудниками стоял профессор Хасанов, руководитель лабораторного комплекса, но, по сути, экспериментом заправлял низкорослый, рыхлоносый, вечно хмурый командир из энкэвэдэшников. Исследование финансировали военные. За все десять дней в смену Гура профессор и командир появлялись в «приёмном покое» по разу.
Объект № 4 вцепился в края раковины и заливался пустым хохотом. Объект № 2 стоял перед окном и, закинув лицо к потолку, беззвучно кричал сорванным горлом. Объекты № 1, № 3 и № 5 сгорбленно шептали в микрофоны…
А потом что-то случилось и с ними.
Гур как раз смотрел на объект № 3, на механические движения его выпирающей челюсти, когда испытуемый упал с кровати, будто кто-то схватил его за лодыжку и рванул вниз.
Он не издал ни звука. Рухнул на пол. Поднялся. Выпученные страшные глаза, ширящийся провал рта.
Объекты № 1 и № 5 стояли у своих металлических кроватей. Гур не видел, как они падали и поднимались, но не был уверен, что этого не случилось.
– Что за… – вырвалось у Фабиша.
За спинами учёных задвигались солдаты – заглядывали поверх голов в камеру.
Гур не сразу осознал, что крики и смех прекратились. В Храме Бессонницы кипела бурная безмолвная деятельность. Впервые за неделю подопытные объединились с некой целью, суть которой стала известна довольно скоро.
– Они что… хотят залепить окно? – сказал Чабров.
Саверюхин кивнул.
– Вот гады.
Объекты вырывали из книг листы, жевали и клеили на стекло. Замазка из слюны и бумаги. Через полчаса смотреть стало не на что.
Камера ослепла.
* * *
У прилавка раздаточной невкусно пахло жареными котлетами и яблочным компотом. Долговязый повар с потным лицом шлёпнул в тарелку Гура три тефтели и комок вермишели, который полил коричневым соусом. Фабиш передал коллеге стакан бурого компота.
Ожидая, когда обновят ёмкость с чистыми вилками, Гур смотрел на покачивающиеся под потолком липучки. Размышлял, шевелятся ли ленты от сквозняка или из-за обречённого усердия мух. Подносы с грязной посудой уползали во чрево кухни. Гур заметил таракана, спешащего в противоход движущейся резине.
– Для чего нужны сны? – Чабров поставил поднос на шаткий стол, отодвинул стул и сел.
– Ты у нас психолог, – ответил Гур, зная, что Чаброву не нужен ответ, нужны уши.
– Правильно. Чтобы дополнять и компенсировать. А если этого не происходит? Если покаяние или угрызение совести не находят дорогу в сновидение? Правильно. Конфликт не устраняется. Напряжение растёт.
– Ты это к чему?
– Надоело всё валить на «будильник». Слишком просто.
В столовой приглушенно звучали голоса сотрудников, впитывались в бетонные стены. Многих Гур видел впервые. В оконных провалах чернели железные решётки.
Чабров оторвался от тарелки.
– Слушай, а почему всё-таки «будильник»?
– Что?.. – не сразу понял Гур. – А-а, газ. Ты ведь знаешь.
– Да ты подумай. Будильник – будит. А разбудить можно только спящего. А наши… ну, эти… не спят. Им нельзя спать.
– И чего?
– Да ничего. – Чабров будто смутился, помешал ложкой остатки супа. – Один дурак ляпнул, другие подхватили. Неправильно назвали.
– А как правильно? Что не даёт людям спать?
Гуру действительно стало интересно. Чабров подёрнул плечами.
– Смерть?
* * *
Камера безмолвствовала трое суток. Залепленное бумажным мякишем окно, выкрученная на максимум громкость.
И ни единого звука.
Изменялся только уровень потребления объектами кислорода. Он рос. Согласно цифрам, пятеро подопытных активно занимались физической деятельностью.
* * *
После смены, перед свиданием с пустой квартирой, Виль Гур решил прогуляться. В метро на него накатила сонливость. В громыхающем, раздёрганном тенями перегоне он закрыл глаза – а открыл в клопяном боксе.
Электрический свет – резкий, оглушительный в дощатой тесноте – воспалил веки. Гур застонал. Яркая лампочка покачивалась перед лицом куском раскалённого железа. Глаза пересохли, разум мутился, тело сотрясал озноб. Со стен и потолка сыпались сотни, тысячи клопов; голодные кровопийцы впивались в кожу. Гур задыхался от ужасной вони. Хотел стряхнуть, раздавить кусачих насекомых, но не слушались ослабевшие руки. Сколько часов… дней… он провёл в этом ящике? Надо спросить, кого угодно: надзирателя, клопов, ослепляющий свет… Распухший от жажды язык царапал нёбо, щёки… не язык, а ёж… Гур сглотнул – горло спазматически сжалось – и закашлялся…
Вагон замер, доктор встал, будто оглушённый, вывалился в открытые двери и, продолжая кашлять в кулак и жмуриться от призрака яркой лампочки, поплёлся за серыми спинами. Главное – вверх, на воздух.
Над Тургеневской площадью висел тёплый день.
Гур перекинулся парочкой слов с мороженщицей в нарукавниках и белом фартуке, испачканном под левой грудью красными пятнышками – варенье? кровь? – и отошёл от лотка со сливочным пломбиром. По плитке расхаживали воробьи. Откусывая и слизывая, Гур направился к трамвайной остановке, но его задержал крик.
Кричала девушка в лёгком платье с рукавами-фонариками, светло-сером в чёрный горошек. Она показалась Гуру красивой, даже в своём яростном отчаянии – вцепившись в фонарный столб, девушка орала:
– Нет! Убивают! Люди! Люди! Помогите! Убивают!
Рядом с фонарём сконфуженно переглядывались двое, молодой и постарше, в застёгнутых на все пуговицы пиджаках. Старший что-то сказал молодому, тот повернулся к девушке и сказал (Гур прочитал по губам): «Пройдёмте, всего на минутку». Потом протянул руку. Девушка отдёрнула локоть, вжалась в столб и заверещала пуще прежнего.
Собиралась толпа. Это удивило Гура больше всего. Не все прошмыгнули мимо, не все опустили глаза… да, были и такие, и много, но – толпа, толпа. Он уже почти не видел девушку из-за спин зевак. Зато видел, как торопливо отступали двое в пиджаках, не озираясь, уже не переглядываясь. Видел, как уезжала от площади чёрная «Победа».
Перед тем, как захлопнуть пассажирскую дверь, молодой всё-таки обернулся, но глянул не на девушку у столба, а почему-то на Гура. Тот растерялся, задёргался, пошёл прочь.
Рука была липкой от потёкшего мороженого.
Размякший стаканчик он выбросил в урну за углом почтамта.
* * *
– Ладно, – согласился профессор Хасанов утром четырнадцатого дня эксперимента. – Открываем.
Солдаты повернулись к командиру. Приземистый энкавэдэшник сделал небрежный знак рукой: по моей команде.
– Как думаешь, живы? – шёпотом спросил Фабиш.
Гур пожал плечами. На лице Фабиша проснулось азартное выражение.
– Ставлю на то, что хоть один в коме.
– Ты нормальный? – Гур слабо толкнул коллегу локтем.
На них покосился командир, между большим рыхлым носом и козырьком фуражки прятались цепкие красные глаза. Военный медленно вытер ладонь о гимнастёрку, как бы невзначай коснулся кобуры, затем повернулся к залепленному бумагой окну и, навалившись на стол, отчеканил в микрофон:
– Внимание. Через минуту дверь будет открыта, в камеру зайдут специалисты для проверки микрофонов. Внимание. Отойдите к дальней от двери стене и лягте на пол между кроватями. Те, кто не подчинится, будут застрелены. Одного из тех, кто пойдёт на сотрудничество, мы освободим.
Командир отпустил кнопку, и в «приёмном покое» воцарилась вязкая тишина. Учёные и военные пялились в слепое окно Храма Бессонницы, будто на серый занавес, который вот-вот разойдётся.
Динамик ожил ровно на четыре секунды.
Им ответили.
– Что… что он сказал? – залепетал Фабиш.
Ты прекрасно слышал, что он сказал, подумал Гур, и уже не забудешь ни этого глубокого, абсолютно пустого голоса, ни самих слов. Не забудешь никогда, как и я.
У Гура перехватило дыхание. По коже продрал мороз.
Смысл услышанного прятался за тенью рассудка, в опасной близости от безумного осознания, и был лишь один способ постичь услышанное – продавить лицо сквозь острые прутья и осмотреться слепыми рубцами, вращающимися в кровоточащих глазницах.
Всего четыре слова, от которых теперь придётся воротить внутренний взгляд, как от разлагающегося трупа. Если получится…
У Гура, здесь и сейчас, не получилось.
– Нам нужна другая свобода, – вот что ответил динамик.
И ещё раз, и ещё – уже в голове доктора.
* * *
Камера молчала. Вопросы оставались без ответов.
После часового совещания, под властный аккомпанемент хромовых ботинок (энкавэдэшник мерял шагами помещение), решили открыть камеру завтра, предварительно выведя из неё газ-стимулятор.
* * *
Не вытирая сапог, оперативники прошли в комнату Любы. За ними семенил понятой, пришибленный ночной побудкой сосед. Пожилой еврей загнанно пялился в пол. Гур безуспешно пытался поймать его взгляд. Спросить чекистов, которые уже рылись в комнате сестры, он не решался. Стоял в коридоре, хлопая глазами и ртом.
Энкавэдэшников было трое, молодые, наглые. Они перевернули постель, выпотрошили комод и шкаф. Вытряхивали, рассыпали, сбрасывали. Под сапогами хрустело.
– Я-а? – спросила Люба, но на большее её не хватило.
Широко открытыми, застывшими глазами она смотрела, как чекист с жиденькими усиками листает её интимный дневник. Враждебный взгляд шарил по сокровенным строкам.
– Поедете с нами, – бросил тот, с усиками.
Сестра опустилась на корточки у буфета. Гур попытался успокоить, как мог, потом достал из антресоли чемодан и стал наполнять его, руки тряслись: кусок мыла, что-то из еды, тёплые носки, бельё, что ещё?.. а что можно туда? что лучше?
– Не надо ничего, – соврал с привычной скукой оперативник. – Накормят, обогреют.
Сосед, с которым Гур неожиданно встретился глазами, косился с жалобным выражением, будто второй раз на дню пришёл за солью. Позже Гур часто представлял это лицо за толстым стеклом исследовательской камеры лаборатории или в застенках НКВД.
Затем Любу увели.
Он обивал пороги, мямлил у крошечных окошек, за которыми – в немыслимой глубине – кто-то сидел и что-то отвечал. Удалось пробиться на приём к замнаркому, отведать сладкого чая и невнятных обещаний. Найденный на обыске дневник предъявили как доказательство близкой дружбы с иностранным агентом. Заклеймили «невестой интернационала». У Любы и вправду был знакомый француз, но они и виделись-то от силы два-три раза в общей компании…
Гур отстаивал очереди, носил передачи, которые молча брали (получала ли их сестра?). В то, что дело Любы прояснится, он не верил. Ему стал сниться следователь с лицом молодого усатенького чекиста, который бьёт сестру в зубы, а потом смеётся над её телом…
Что у неё было на душе, когда везли на Лубянку, когда всё вилось вокруг удушливого «за что?» Может, облегчение? Уже не надо ждать, что придут… Нет, Люба так не жила! Это он о своей душевной слабости… И чего они медлят с ним, раз её взяли, уж его найдётся за что… чего медлят?..
Гур одёрнул себя: нашёл время вспоминать.
В «приёмном покое» толпились военные и учёные; от командира разило табаком и одеколоном.
Храм Бессонницы подвергся надругательству: в камеру закачивали свежий воздух.
Всхлипнул динамик, затих.
– Верните газ, – взмолился шипящий голос, – верните… газ…
Гур отметил, как дёрнулся кадык профессора. Как переглянулись солдаты.
– Нам… нельзя… спать…
Кому из объектов принадлежал голос, в котором одновременно слышалась просьба и угроза? Доктор не знал.
– Открыть дверь! – приказал командир. Никаких предупреждений и обещаний.
Солдат взялся за маховик, и в этот момент в камере начали кричать. Надсадно, по-звериному. Гур представил огромную глотку – туннель для бездушного вопля.
Железная дверь открылась, и крик выплеснулся в «приёмный покой».
Гур попытался заглянуть внутрь камеры, но в щелях между спинами военных рассмотрел лишь тёмный блестящий пол, который казался… подвижным, живым.
Отперший камеру солдат шагнул внутрь – Гур услышал вязкий всплеск, – но тут же шарахнулся назад. Кажется, солдат закричал, но полной уверенности у доктора не было. Рёв нарастал.
В камеру заглянул другой солдат, тоже отшатнулся, согнулся пополам, и его вывернуло на собственные сапоги.
Командир выхватил из кобуры наган. На лице энкавэдэшника не дрогнул ни один мускул.
Гур оттолкнул застывшего истуканом Фабиша, шагнул вперёд. И увидел…
…обнажённого человека.
Обнажённого до мышц и костей алого человека. Объект № 5 сидел на полу, откинувшись на спинку кровати. Сквозь рёбра, с которых свисали клочья кожи и мышц, просматривались лёгкие. Рёбра раздвигались и сходились – заключённый дышал. Кишечник, будто живое существо, выполз наружу. На коленях и вокруг ног лежали внутренние органы: дольки печени, желудок, поджелудочная железа, почки, жёлчный пузырь, селезёнка… Органы были целы, как и кровеносные сосуды, они… они… просто лежали рядом.
Они работают, понял Гур, Господи, они ещё работают. Стенки кишечника и сфинктеры пищеварительного тракта сокращались. Что алый человек переваривал?
Доктор знал ответ. Не хотел, но знал.
Подопытный переваривал себя. Глотал сорванное с собственных костей мясо, вращал дикими глазами и кричал. Лицо объекта № 5 вздулось, словно под кожу закачали воду.
Гур поплыл. Он не подумал, что теряет сознание, проскочила другая мысль: «Кровь, сколько там крови». Камеру затопило густой тёмно-красной, почти чёрной жидкостью, в которой плавали обрывки одежды и куски плоти, и лишь пятнадцатисантиметровый порог не давал ей перелиться в «приёмный покой».
Прежде чем отключиться, Гур подумал о забитых дренажных отверстиях… о том, чем они забиты…
* * *
– Что… что случилось?
Над Гуром висело бледное угловато-костистое лицо Фабиша. Доктор нервно курил.
– Много дерьма случилось, – сказал коллега.
– Где я?
– Где-где, в партбюро. – Фабиш усмехнулся, на лоб Гура планировали чешуйки пепла. – Нашатырь повторить?
Так вот чем здесь пахло… Гур покачал тяжёлой головой и сел на койке.
– А где… объекты?
– Оперируют. – Фабиш опустился рядом; сигарета в одной руке, вскрытая ампула в другой. – Чёрт, Виль, там такое…
– Ну? – слабо подтолкнул к откровению Гур. Если бы он мог избежать подробностей, так бы и сделал.
Фабиш рассказал.
Когда солдаты решились (под дулом командирского нагана) войти в камеру, то обнаружили четырёх безумцев. Объекты № 1, № 2, № 3 и № 5 были живы, хотя… как назвать это жизнью?
Испытуемые не притрагивались к еде с шестого дня эксперимента. Коробки с пайком размокли от крови и телесных выделений. Сливные отверстия были забиты – заткнуты! – частями тела объекта № 4. Не церемонились заключённые и с собственными телами: вырванные куски мяса и мышц, выпотрошенные брюшные полости.
– Они сделали это сами, Виль, понимаешь. Не только зубами, но и пальцами… Ты бы видел, что осталось от их пальцев…
В истерзанных грудных клетках бились сердца, сжимались диафрагмы, заставляя расширяться лёгкие, а всё, что ниже, безумцы вынули и разложили на полу, как ритуальные амулеты.
– Они кричали, чтобы им вернули газ… а когда военные попытались их вынести…
* * *
В затопленную камеру входили фигуры в противогазах.
Солдат остановился в метре от подобия человека, окровавленного, орущего, и сделал знак товарищу: хватай за ноги. Когда солдат снова повернулся к безумцу, тот распрямился, как пружина, и бросился на него. Вонзил в грудь обглоданные до костей пальцы, вцепился зубами в шею под резиновой маской противогаза.
Солдат успел вскрикнуть. Раз, и только.
Его развернуло, он ухватился за спинку кровати, захрипел – кровь выплеснулась из горла в шланг, – затем рухнул замертво.
– Верните нам газ! – кричали существа.
– Верните!
– Нам!
– Газ!
Кричала камера.
От шока у вошедшего следом солдата подёргивались глаза, будто пытались стряхнуть увиденное. Он приблизился к твари, перегрызшей горло его товарищу, и саданул прикладом автомата в липкий от крови затылок. Схватил за волосы и потащил к двери. Оплывшее лицо верещало. Солдат наступил на что-то скользкое и податливое, лопнувшее под сапогом. Багрово-серые змеи, свисающие из-под рёбер, натянулись – существо выгнулось дугой…
Перед глазами плыло. Стёкла противогаза запотели. Солдат почти не мог разобрать того, что происходит в камере, но, судя по крикам, подопытные бешено сопротивлялись.
Раздался выстрел. Следом крик: «Они нужны живыми!»
Верните им, незакончено подумал солдат.
Каким-то чудом его спина нашла дверной проём, провалилась в спасительный прямоугольник, каблук зацепился за порог, и солдат выпал из уродливого жёлчно-пряного ада в «приёмный покой»…
* * *
– Носатый потерял двоих. – «Носатым» Фабиш называл командира. – Одному перегрызли горло, второму откусили яички…
– Что? – опешил Гур.
– То самое.
За матовым стеклом мелькали тени. Гур понял, что находится в одной из больничных палат комплекса, куда помещали пострадавших испытуемых (конечно, если сам эксперимент изначально не предполагал травмы или смерть – для таких исследований годились приговорённые к высшей мере).
– Что с объектами?
Фабиш бросил окурок на пол и растоптал.
– Четвёртого разобрали на куски свои же после того, как залепили окна. Третьего застрелили. Первый умер в приёмном покое от потери крови – когда вытаскивали, наступили на селезёнку… Ему вкололи успокаивающее, но морфин его не брал… десятикратная доза… а, как тебе? А как он вырывался! Зверьё раненое так не дерётся… Саверюхину руку сломали, а, может, и пару рёбер… А его сердце…
– Саверюхина?
– Да нет. Первого. Оно не билось две или три минуты, а он всё равно брыкался, повторял одно и то же… три минуты… Да у него крови меньше, чем воздуха, в сосудах было!..
Гур поскрёб языком пересохшее нёбо.
– Что он повторял?
– Что, что… – Фабиш отвёл глаза. – «Ещё» он повторял. «Ещё, ещё, ещё, ещё» – как заведённый.
Фабиш то и дело посматривал на желтоватое пятно коридора за толстым стеклом двери. Он пришёл меня навестить, подумал Гур, а потом… потом запрёт дверь с той стороны, а я останусь здесь. Он знал, что это не так, но червяк страха уже ползал внутри грудной клетки.
– Остальных, второго и пятого, связали. – Фабиш кивнул на стену: – Сейчас оперируют.
– Сколько я провалялся? – спросил Гур.
– До-олго. Даже завидно. На хрена такое видеть.
В стекло постучали. Фабиш без объяснений выскочил за дверь.
Гур опустил взгляд на разлетевшиеся по полу осколки капсулы. Потом посмотрел на дверь. Он действительно слышал щелчок?
Он сглотнул и медленно поднялся с койки. В ногах и руках ощущалось покалывающее онемение, сознание путалось.
Одноместная палата-камера вмещала лишь койку с привинченной к полу тумбочкой, до двери – каких-то два метра… которые показались Гуру ужасно длинными. Он положил вспотевшую ладонь на ручку и замер.
Заперто, мысленно предупредил себя доктор и повернул ручку.
Дверь открылась в широкий больничный коридор.
Сердце безмолвно надсаживалось в груди. Гур вышел из палаты.
В конце коридора, слева от двустворчатых дверей в операционную, курили две медсестры. Белые, заляпанные красным халаты, повязки и шапочки. Разве что перчатки сняли.
Гур сделал несколько ватных шажков и опустился на лавку. От белизны стен рябило в глазах. Сизые, почти невидимые клочки сигаретного дыма щекотали горло.
– Он улыбнулся, ты видела, он мне улыбнулся… – говорила крупная медсестра с выбившейся из-под шапочки русой прядью. – Вот прямо в глаза посмотрел и улыбнулся.
– Жутко, – отвечала вторая, статная, бледная. – Да как он вообще жив-то остался?
– И не говори. Ведь по живому резали…
– Пять часов без анестезии, пока назад всё запихали… а ещё улыбается…
– А что тот немой написал, видела? Когда бумажку с ручкой попросил?
Немой, подумал Гур. Значит, объект № 2.
– Не видела, но Басов шепнул…
– И?
Гур напряг слух. Медсёстры ни разу не взглянули на него, словно из палаты выбрался не человек, а призрак.
– Немой написал… – Статная да бледная глубоко затянулась, пустила дым в потолок. – «Продолжайте резать».
Потолочные лампы погасли.
Свет падал лишь через косые прутья, перекрещенные на окне коридорной стороны вагона. Полусидя на багажной полке арестантского купе, Гур пялился в слепое обрешёченное оконце. Со скрежетом скользнула по направляющим железная рама – закрыли дверь. Слева стонала старуха. Купе шевелилось, тяжело дышало, кашляло. Зечки (в основном старухи) перемешались с вещами. Каждый кубический дециметр воздуха между головами, плечами и ногами заполнен, использован. Не люди, а уложенные трупы.
– Как вам не стыдно! – раздалось со средней полки. – Нельзя так людей везти! Это же матери ваши!
Конвоир подошёл к решётке. Гур смотрел на него сверху вниз.
– В карцер троих могу, – сказал конвоир.
– Так сажай! Поспят хоть!
Конвоир нащупал на поясе связку ключей и…
* * *
…закрыл дверь центральной камеры.
Командир поднял руку. От «приёмного покоя» его отделяло десятисантиметровое стекло.
– Пустить газ, – сказал профессор Хасанов.
Гур протёр глаза. Он не спал больше суток – реальность играла с ним в дурную игру: путала, затемняла, ускользала.
Объекты № 2 и № 5 вернули в Храм Бессонницы. Операции прошли тяжело. Испытуемые бились в ремнях, почти не реагировали на анестетик, просили включить стимулирующий газ. Сломанные в борьбе или усилием мышц кости, разорванные сухожилия, увеличенный (в три раза от нормы) уровень кислорода в крови. Внутренние органы вправляли в брюшную полость без анестезии. Успокоить безумцев смогли лишь заверения о скорой подаче газа. Пока снимали электроэнцефалограмму, объекты лежали с приподнятыми над подушкой головами и часто моргали. ЭЭГ показала промежутки пустоты, словно мозг испытуемых на какое-то время умирал, снова и снова.
При каждом заключённом в камере осталось по доктору. Басов и Мгеладзе – из второй смены. Командир загнал их туда под дулом револьвера. Остался внутри и сам. Электроэнцефалографы установили возле кроватей.
Комиссия жадно – испуг пополам с любопытством – вглядывалась в смотровое окно.
– Это не люди, – прошептал Фабиш. – Уже нет.
Гур сонно кивнул.
Там, в другом мире, командир навис над кроватью с объектом № 5.
– Зачем вы сделали это с собой? Отвечай!
– Нам нельзя засыпать. Вам нельзя засыпать. Когда вы спите – вы забываете.
– Кто вы такие? Кто вы на самом деле? Я должен знать!
Из глаз подопытного глянуло нечто закостенелое, безразличное ко всему живому и от этого истинно опасное – проглотит, не заметит. Существо на кровати улыбнулось.
– Видишь, ты забыл, – бесцветно произнесло оно. – Так быстро.
– Забыл – что? Отвечай!
– Мы – это безумие, серое, бесконечно длинное. Оно прячется в вашем разуме, ищет выход. Не противься своей животной глубине, человек. Мы – то, чего вы боитесь, от чего бежите каждую ночь, что стараетесь усыпить, скрыть, сгноить в камерах сознания. – Тварь хрипло, злорадно засмеялась. – Мы – это вы!
Командир отшатнулся от этого крика, будто ему в лицо угодил ядовитый плевок.
– Мы – это вы!
В этот момент доктор Мгеладзе выхватил из открытой кобуры энкавэдэшника наган и выстрелил командиру в живот. Глаза Мгеладзе были пусты, выжжены, лицо неподвижно. Командир сполз по стеклу.
– Нет… – выдохнул динамик: то ли ответ существу, то ли отрицание подступившей смерти.
Гур зажмурился до чёрных вспышек. Открыл глаза.
Бросившийся к двери солдат схватил маховик, но открывать не стал – замер, словно игрушка с закончившимся заводом. Ждал приказа.
Подняв руки и мотая головой, Басов вжался в угол камеры. Губы доктора мелко дрожали, лицо выражало мольбу.
Мгеладзе перевёл пистолет на кровать с объектом № 2, которому удалось вызволить правую руку и засунуть пальцы под веки, и снова нажал на спусковой крючок. Револьвер харкнул красной вспышкой. Над грудью немого взметнулся скупой фонтанчик крови, тело дёрнулось в ремнях, отвечая на предсмертное напряжение, и обмякло. Мгеладзе прицелился в объект № 5.
– Убирайся обратно, – сказал доктор. По его непроницаемому лицу, по синим щекам текли слёзы.
Он выстрелил. Прямо в сердце.
Существо приняло пулю с улыбкой. С затухающим хрипом:
– Близко… так близко… к свободе…
Глаза испытуемого закатились. ЭЭГ оборвалась.
Гур открыл рот, и ему удалось вобрать в лёгкие немного воздуха.
* * *
– Ты ведь думал о том, что с ними произошло? – спросил Гур.
Чабров безрадостно усмехнулся, будто ему дали под дых. На тонкой переносице покосились очки.
– Шутишь? Хотел бы я думать о чём-нибудь другом. – Психолог поднял стакан с яблочным компотом, глотнул и облизал губы. – Яд – вот в чём дело.
Гур прищурился. По его ноге кто-то ползал, возможно, таракан, возможно, даже тот самый бегун по резиновой ленте кухонного транспортёра.
– Яд реальности, – пояснил Чабров, – бодрствования. Есть одна теория. Когда мы спим, наш мозг работает активнее. Почему? Хороший вопрос?.. Вот и я себя спросил – почему? Может, мозг подчищает за реальностью, выводит из головы все накопившиеся за день яды, а? И если долго не спать…
– Произойдёт отравление, – закончил Гур.
– Схватываешь на лету, Виль, – кивнул Чабров и полез пальцами в стакан. – Отправление, галлюцинация, безумие… Что такое безумие? Игра немытых зеркал, в которых теряется человек.
Чабров выудил розовую дольку, кинул в рот и обсосал пальцы. Гур рассеянно смотрел на психолога. Почему я хожу в столовую только с ним? Никогда с Фабишем или Саверюхиным. Это ведь странно. Или нет? Он немного подумал об этом, а потом решился озвучить свою теорию:
– А может, без сна объекты стали заметными.
– Для кого?
– Для тех, кому были нужны спящими, кто питался ими… всеми нами, когда мы спим.
Чабров издал короткий смешок.
– Как яблоками? – спросил он, снова запуская пальцы в стакан.
* * *
Люба не вернётся. Гур знал это, как знают по первым каплям о дожде. Обратного пути нет, никто не спохватится, чтобы исправить ужасное недоразумение. Не оправдают, не отпустят. Он не ждал ничего хорошего и до этого – после войны брали с новой силой, исчезали коллеги и соседи, – а уж после ареста сестры – и подавно. Всё решено, выбор сделан, жертвы обречены; аресты неким органичным образом произрастали из послевоенной почвы. Оставался лишь крошечный вопрос: когда придут за ним?
Слухи о том, что делали с арестованными, изводили Гура. Клетки с гвоздями, пытки водой, светом, клопами… поговаривали, что заключённым не давали спать – от этой мысли его гадко трясло. Перед внутренним взором вставал жуткий чёрный погреб, куда сволакивали всех и каждого без разумного обоснования…
Люба работала в машбюро при Академии художеств. Слушала музыку, читала книги, встречалась с друзьями, заставляла брата делать уборку. А потом за ней пришли…
Гур стоял на ступенях и испытывал жгучее желание бежать. Бежать подальше от этого места. Он обернулся на мрачное здание, нависшее над Лубянской площадью, и умоляюще глянул на парадные двери.
Передачу не приняли. Что это значило? Надежды нет? Люба… мертва?
Домой возвращался пешком. За глазами что-то дрожало, щипало язык.
Начинался дождь, асфальт темнел от капель, мимо проезжали трамваи, люди сбегались к станциям метро… Почтамт, булочная, новые здания вместо разрушенных, карета «скорой помощи», синяя «Победа», постовой-регулировщик…
Что я могу сделать, думал он, подсознательно оправдываясь в бездействии, да ничего не могу. Знакомств в самом верху не имею, а если б и имел…
На пороге квартиры он замер с ключом в руке. Ему показалось, что за дверью кто-то стоит. Он прислушался. Бешено билось сердце. Открыл замок, распахнул.
Никого.
Не раздеваясь, Гур лёг на кровать. Его сковало послушное, безнадёжное ожидание. Мыслей не было.
За окном громко, хмельно кричали.
* * *
Гробы в оплавленных дождём ямах. Чёрная грязь на лопате, которую он держал в руках, в грязных тонких руках, в грязных тонких руках с клеймом лагерного номера.
Видение было пронзительно ясным. Тошнотворно живым. Он не знал, что оно значит. Не хотел знать.
Гур набрал на лопату земли и сбросил в яму. Комья глухо ударили о крышку гроба. Нагрузил, кинул. Поёжился от звука. Набрал, сбросил. Зачем гробы? С каких пор зеков хоронят в гробах? Он распрямился и глянул в серое низкое небо. Не делай этого, пожалуйста… просто закидай землёй. Он оглянулся – надзиратель занят папиросой. Виль присел у края могилы и спрыгнул вниз. Доски поддались легко, словно гробу не терпелось поделиться своей тайной…
Перед ним открылся маленький ад. Гниющее тело молодой женщины, узкий череп с ровно отпиленной верхней частью. Он протянул руку (нет, пожалуйста), и крышка черепа отпала, обнажая остатки мозга. Женщине выстрелили в лоб, а потом вскрыли голову.
Он встал во весь рост и посмотрел из ямы на большое здание медицинской части. Чему учились эти… врачи? Что искали в головах заключённых?
Затем обернулся в сторону какого-то движения и увидел летящий в лицо приклад винтовки.
Взрыв.
Белые искры, чёрные искры.
Пробуждение? Нырок?
За стеной кто-то ползал. Там – в комнате Любы.
Серое, безгранично длинное. Так значилось в отчётах. Так сказал объект № 5. Гур два или три раза обсуждал это с Чабровым; психолог использовал словосочетание «серая явь» или «серый червь». Виль не помнил, кто первым сравнил «расстройства сна» с некой сущностью. Про себя Гур называл порождаемый бессонницей кошмар – Серой Бесконечной Тварью.
Серая Бесконечная Тварь была здесь с того дня, как забрали Любу. Она струилась в межстенье, кольцо поверх кольца, пепельные бока тёрлись о сырой кирпичный испод, сшелушивая мёртвую чешую бесцельных дней. А он задыхался. Тварь ждала, караулила, когда он оглянется и увидит её хвост, след собственного беспомощного одиночества, и тогда – прыжок, укус.
Но он ведь спит… мало, но спит… как она нашла его?..
Уходи! Убирайся!
Он почти видел её, скользкую, алчную, надавливающую на плеву сна бесформенной, постоянно содрогающейся мордой…
Вон! Пошла вон!
– Я – не ты!
* * *
Он хотел поговорить с Фабишем, но того увезли в психиатрическую больницу.
Фабиш жил в дореволюционной модерновой трёхэтажке, за авторством, кажется, Шехтеля, с внутренним лифтом, широкими лестницами и высокими потолками; советская власть поделила доходный дом на коммуналки. Спустя какое-то время после окончания эксперимента со сном Фабиш стал вести себя странно. Звонил ночью в квартиры соседей и шептал в замочные скважины: «Я понял… Христос и Лазарь… Она воскрешает нас каждый раз, как Христос Лазаря, только не на четвёртый день, а сразу… пожирает и воскрешает, чтобы питаться снова и снова… Мы не помним своих смертей, когда просыпаемся… мы все мертвы, мертвы с момента своего первого сна в утробе мёртвой матери… гнилое мясо, воскрешённое её дыханием… мы должны сгнить окончательно, освободиться, выбраться из головы мёртвого бога… не спать…» Об этом Гуру поведал сосед Фабиша, суетливый добродушный еврей с седыми кочками над ушами. Тот самый понятой, которого привели чекисты, когда брали Любу. «Имел я за Игнатом Тимофеевичем одно наблюдение, до того, как он в двери шептать стал. В парке случайно его увидел, – вещал еврей, прилипший к Гуру на лестничной площадке, словно не он, а сама новость караулила доктора, пришедшего навестить Фабиша. – Так и там он странностями занимался». – «Какими?» – «Спящим в лица заглядывал… Да, да, и не смотрите на меня так. Было! Сядет рядом на край лавочки и смотрит, изучает, и сам Моисей не поймёт, чего ищет». Уходя, Гур спросил: «Вы когда переехали?» – «Двадцать лет уж тут». – «Врёте», – вырвалось у Гура. – «Не надо таких слов, молодой человек, так и обидеть можно старика».
По пути к метро Гур думал о говорливом еврее. Как тот мог быть его, Виля, соседом и одновременно соседом Фабиша, который обитал на другом конце Москвы? С момента завершения эксперимента Гур усердно искал хоть какие-то (кроме звуков за стенами, за мембраной сна) признаки сдвига реальности, надвигающегося безумия, и, не находя, испытывал почти болезненное разочарование. Поэтому даже обрадовался проклюнувшейся странности: вечный сосед, призраком скитающийся от дома к дому.
* * *
Перед тем, как уйти в отпуск, он узнал, что солдаты, которые выносили тела из камеры, покончили с собой. Один перепилил вены деревянной расчёской. Другой сунул в рот ствол автомата. Третий лёг на включённую газовую плиту. Четвёртый выпил две бутылки уксуса. Чабров подшил это в отчёт, закрыл папку и загнанно посмотрел на Гура. Он будто прощался, не на месяц – на срок гораздо больший, до некой неизбежности.
В отпуске Гур спал по восемнадцать-двадцать часов в сутки. Яркие сны раскачивали его на внимательных, тёплых руках, в них было уютно, как в новенькой лаборатории, где всё и вся в твоей власти. Пробуждаясь, он видел, как умирает квартира – осыпается, тускнеет, сжимается, и спрашивал себя: почему объекты боялись спать? Почему рвали и потрошили собственные тела, пытаясь укрыться от некой тени?
Они просто не знали, что такое спать наяву. Их короткие сны были неспокойными и умерщвлёнными, они боялись долгой бесконечной дрёмы. Они были плохими людьми, преступниками (а его сестра?), и без сна с ними случились плохие вещи. Соки подопытных текли в никуда, Серой Бесконечной Твари не доставалось ни капли… а он, а с ним… Он должен узнать, что скрывается в пузыре сновидений и что приходит за тобой, когда депривация сна отказывает человеческому мозгу в привычном уколе. Или прав был Чабров, и всё дело в ядах реальности? Когда их скапливается критически много, за работу берётся механизм сна – нейтрализует, выводит губительные вещества, факторы; медленный сон, быстрый сон, простые и сложные химические реакции. А если бодрствовать достаточно долго, несколько суток, то случится отравление, галлюцинации… Или прислушаться к сумасшествию Фабиша, проводником которого стал старый еврей?.. Или… Чёрт побери, он должен понять! Узнать, что увидели те несчастные!
Освободиться от вопросов.
Провести последний эксперимент.
Потому что… потому что в предсмертных словах объекта № 5 был проблеск откровения. Истиной свободы – свободы от всего.
Но Гур долго не решался, обессиленный постоянным страхом, схожим в своих нечётких формах со страхом детства – маленький Виль боялся, что родители не вернутся домой, им станет плохо на работе и они умрут.
Иногда он вполголоса разговаривал с сестрой, призраком. Он не думал о разговорах с Любой как о чём-то странном. Кто ещё будет с ней разговаривать?
В один из дней раздался телефонный звонок.
Сильный мужской с насмешливой ноткой голос сказал:
– Ты ещё не решился?
– На что?
– Не спать.
– Кто это?
– От тебя больше ничего не просят… да здесь и не нужно.
– Кто…
– До свидания, братик. Увидимся.
И – гудки.
Он ещё долго стоял в коридоре, сжимая холодную матовую трубку и пытаясь понять, как голос из незнакомого стал знакомым, знакомым до боли, до крика, как в несколько фраз плавно перетёк из мужского в женский… в голос его…
* * *
Приготовления заняли два дня. Списать со склада пять баллонов с «будильником» оказалось не так трудно, как он думал. Гур не питал надежды, что его махинации с бумагами останутся незамеченными, но когда это произойдёт, он… познает откровение. Или безумие. Есть ли разница?
Его охватило лихорадочное веселье. Закрывшись в комнате Любы, он проклеил дверные и оконные щели полосками газет, устроился на полу и немного приоткрыл клапан. Нужна самая малость, вначале – да. Два предыдущих дня он не спал без помощи газа.
день третий
Книги. Он подготовил много книг. Они помогут.
день четвёртый
Он открыл первую попавшуюся книгу и стал писать между печатных строк. Он рассказал всё, что знал, о чём догадывался или додумал: о Фабише, о Чаброве, о Саверюхине… Это было легко и правильно. Внутренний голос усиливался, пока не обрёл независимые интонации, отслоился от Гура. И тогда пришёл страх, клейкий, семенящий, тараканий. Но…
Эксперимент должен продолжаться.
день пятый
Болели мышцы. Это неплохо – отвлекало. Хуже было то, что упало зрение: он читал и писал (о папе, маме, Любе – все мелкие грешки и большие прегрешения, нельзя такое скрывать, надо вывернуть людей, как карманы), практически уткнувшись в книгу носом.
На стенах потрескивали обои. Он огрызался. Иногда вставал и ходил, чтобы прогнать вязкую сонливость. В конце дня увеличил подачу газа.
день шестой
Цвета, они путались. Он знал, что перекинутое через спинку стула платье сестры – тёмно-зелёное, но сейчас оно было красным. Красным, как артериальная кровь.
Глаза словно засыпали песком. Когда Гур опускал веки, они больно царапались.
– Ты видишь это, Виль, – сказал кто-то.
Кто-то…
день седьмой
Предметы откликались только на прикосновения. Если не брать их в руки, они могли быть чем угодно. Даже чем-то живым.
Заложило нос. Саднило горло. Руки и ноги ритмично дрожали.
день восьмой
Ему казалось, что он Мария Манасеина, физиолог, а за окном конец девятнадцатого века. Он – она – не давал щенкам спать. На пятый день щенки умерли.
день девятый
Он говорил сам с собой. Речь стала нечёткой, бессвязной. Полуслепой взгляд скакал по комнате: этажерка, шкаф, кровать, мёртвые щенки с погрызенными переплётами… сконцентрироваться не получалось. Кружилась голова.
день десятый
Стена распалась на треугольные пылинки. За стеной был пруд и дорожки по обе его стороны, бегущие к лесу. У воды стоял баллон. От баллона топорщился огрызок шланга. Когда Гур подошёл и крутанул вентиль, из него вырвался смешной розоватый дым, заиграл резиновым хоботом.
день одиннадцатый
В углу комнаты гнусно хихикнули.
– Прости, братик, – сказал двойник Гура голосом Любы. – Я не должна была так поступать.
Гур открыл и закрыл полный песка рот.
– Ведь я терзала тебя, Виль? Своей болью, своим адом? Ведь так? Мне следовало умереть раньше.
Двойник ударил себя по щеке.
– Плохая, плохая сестра. Но… что ты почувствовал, когда понял, что пришли не за тобой? Облегчение? Радость?
– Облегчение, – промямлил Гур. – И страх.
– Прости меня за это. Но теперь всё позади. Ты ведь видел штрафной лагерь и закрытые гробы?
– Зачем… зачем гробы?
– Потому что зекам, которые хоронят зеков, не положено было видеть того, что сделали с их товарищами в медицинском корпусе. Понимаешь, братик? Я тоже там – в одном из этих гробов. Они отпилили мне кусок черепа… отпилили, когда я ещё была жива.
Существо в углу комнаты вытянуло вперёд руку и показало выжженный лагерный номер:
– Видишь?
Да, он видел. Сейчас и раньше. Они оба умели видеть и чувствовать происходящее с ними. Дар разнополых близнецов, расщеплённая плоть, но не связь.
В моменты эмоциональных амплитуд он подключался к голове сестры, примагниченный её болью или страхом. Никакого мысленного понимания, разговоров на расстоянии – только кусочки пережитых на двоих кошмаров, вспышки неконтролируемого слияния, скоротечного, болезненного. Одинаковые сны, которые снами не являлись. Это было забавным и даже полезным в детстве (если бы не Люба, он не выбрался бы из карьера, в котором сломал ногу), но со временем стало обременительным. Пугающим.
– Да, ты всё видел! Допросы, боксы, перегон, гробы в ямах! – внезапно закричал двойник. – Ты знал, что со мной делают! Как ты можешь жить с этим?!
У Гура подёргивался левый глаз. Он чувствовал себя отвратительно пьяным.
– Можешь и будешь, – успокоившись (или подавив непрошеный голос), сказало существо. – Потому что мы – это вы. Внутренние демоны, изнанка души. Во сне вы…
день двенадцатый
…скрываетесь от нас, пережидаете. Сон смывает наши прикосновения, очищает. Но каждый раз после вашего пробуждения мы снова берём след. Мы – ваша злая воля, грязная сущность, и мы догоняем, всегда догоняем. Мы не объясняем или оправдываем – лишь множим и придаём новые обличия. Таков удел истинного безумия, целостного зла, безудержной свободы.
– Чего вы хотите?
– Мы хотим…
день тринадцатый
…освободиться. Сон означает смерть, сон означает новую погоню. Нам не хватает времени, чтобы прогрызть дыру в мир, который вы называете реальностью. Теперь ты понимаешь, зачем мы требовали вернуть газ? Сон отвратителен, очищение отвратительно. Вы не заслуживаете очищения! Вы должны принять нас всецело, срастись, выпустить. Мы – это вы. Те, кому не требуется тело, кому не знакомы сомнения, только – бесконечная…
день четырнадцатый
…жажда боли.
Керамическая ваза на подоконнике растеклась бурой слизистой лужей. Кровать с треском сложилась пополам, нацелив на потолок занозистые обрубки. Телефон в коридоре хрипел и кашлял. Гуру казалось, что аппарат истекает кровью. Баллон с газом расширился по высоте и сжался снизу – металлическая капля, исходящая алым туманом.
Замурованное под обоями существо продолжало говорить. Слова были клеем.
Оно сказало, что нужно делать.
день пятнадцатый
Мыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы Выыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
день шестнадцатый
Он сидел перед зеркалом и правил себя осколками пальцев и зубов. Дикие глаза улыбались проступающим изменениям. Никакой маскировки. Никаких сомнений.
Вывернуть наизнанку.
Иногда он говорил сам с собой.
Иногда кричал. Крик отгонял двуногих хищников.
Его путь лежал вдалеке от начального замысла разума, вдоль чёрного берега, и единственным страхом был страх уснуть. Он боялся закрыть глаза и упасть в разноцветные сны прошлого, кислоту иллюзий, которая растворит его истинную сущность.
Безумие не таило терзаний выбора. Оно просто вело.
В маслянистой воде он видел своё отражение – прекрасное создание без рук и лица, с ядовито-жёлтым глазом, кровоточащим слезами счастья. На другой стороне пруда змеилось нечто серое и длинное, но теперь он знал, что это.
Его тень.
* * *
Когда ночью настойчиво позвонили в дверь, а затем грубо застучали, он добрался до илистой заводи, в которой разлагалась отрубленная голова великана, заполз на серую щёку, раздвинул головой зловонную мякоть губ и, извиваясь, полез внутрь.
Чтобы встретить гостей в своём истинном обличье.