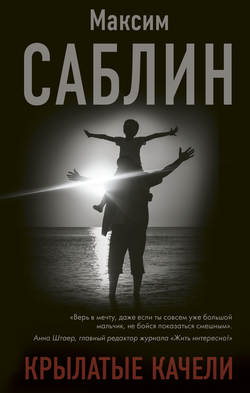Читать книгу Крылатые качели - Максим Саблин, М. Т. Саблин - Страница 28
Часть третья
27
ОглавлениеПетр Богомолов не был плохим парнем, как могло показаться. Нет. Друзья знали о нем больше других и уважали его. Петька родился в деревне Боброво на Северной Двине, с населением восемьдесят человек. Мама его умерла при родах. Отец был плугарь[6], возможно, последний плугарь на планете и странный человек. Отличался его отец от прочих странных типов только тем, что желал сыну другой судьбы и отправил его в Московский университет.
Богомолов явился в приемную комиссию в старых лохмотьях и калошах, с крестьянским мешком за спиной и одним паспортом в кармане. Он жил в общежитии на Литовском, окруженный горами «Доширака», работал в «Макдоналдсе», печатал фальшивые московские регистрации и никогда не жаловался. Да, он боялся, что какая-нибудь мелочь, типа драки на Мастрюковских озерах, раздавит его. Грибоедов, москвич, все имел и ленился, Петр был нищий, но пер к мечте, словно атомный ледокол «Таймыр». Да, он был бездушным типом, но у него не было мамы, самого дорогого человека в мире! Петька был несчастный человек, не знавший материнской любви. У кого-то убивали отцов, и из этих людей вырастали странные типы, у Петьки не было матери, и вырос Петька. Он просто не умел любить, но пытался как мог дружить.
Прошел июль, август, наступил сентябрь две тысячи пятого года. Изабелла бросила Петра и нашла себе египтянина. Петр женился на Анне. Мягков продолжал писать.
Они как-то встретились в дождь с Мягковым у чугунного фонаря на старом Арбате. Друг брел из музея-квартиры Пушкина в промокшем сером плаще, голодный, усталый, с воспаленными глазами. Шарф Мягкова был заношен и провонял потом.
– Monsieur, je ne mange pas six jours[7], – пошутил Федор.
– Смейся-смейся, смерд, – возразил с улыбкой Мягков.
Они обнялись.
Федор уже носил поддельный галстук Giorgio Armani и важничал: его взяли вторым помощником младшего юрисконсульта в большой банк. Они сели в «Му-Му» рядом с памятником Окуджаве. Федор купил другу поесть. Илья, с жадностью съедая котлеты, рассказывал о тяжелой судьбе писателей в России.
– Ты не представляешь, как я хочу стать писателем! – говорил Илья, поглядывая на Федора безумными глазами. – Я встаю в пять утра и до ночи пишу роман. Когда я пишу, я забываю обо всем. Я не помню, мылся я или нет. Я нахожу стакан с холодным чаем и вспоминаю, что утром наливал себе чай. О, это сверхусилие делает меня другим. В эти дни я пишу лучше, я чувствую это! Я ходил к Пушкину, как в гости к другу. Мы на одной волне! Я теперь смотрю на мир иначе. – Он некоторое время молча жевал хлеб. – Я слышу, как скрипит дорожный знак на ветру. Я вижу, как отклеиваются пластыри от щиколоток наших модниц. Я чувствую, как по моей щеке стекает капля дождя. Я вижу души, стоит посмотреть людям в глаза. Это божественно! У меня появился внутренний театр, я говорю сам с собой, я наливаю вино в фужер и произношу тост, я играю в жизнь писателя! Представляешь? – он взглянул на Федора. – Нет, конечно, ты не поймешь меня, дружище. Писатель обречен на одиночество!
– Да ты ведьма, Илья!
Федор позавидовал горящим глазам Мягкова: «Наверное, так же иногда сам Достоевский, разговаривая с братом, не замечал, что жует и чавкает одновременно».
– Так твой безумец-моряк доплыл до Австралии?
– Нет! – решительно ответил Илья. – Понимаешь, когда я дописываю до конца, я вырастаю как писатель – и мне не нравится начало. Я начинаю править начало – и мне перестает нравиться конец.
– Так надо себя остановить, дружище!
Они разошлись. Федор – на работу, в особняк обер-кригс-комиссара Романа Тургенева на старом Арбате, Илья – домой, в квартиру депутата Немезиды Кизулиной на Фотиевой. Мягков жил у тещи с тестем, интересным типом, что запирался в кабинете, раскрашивал матрешки и всегда молчал.
Мягков любил свою тещу очень недолго, потому что депутат, пусть даже глава комитета по семейной политике, детству и материнству, как-то выгнала его из квартиры «размышлять о поиске нормальной работы». Что с нее взять, старая женщина не представляла, как живут великие писатели. Илья переехал к Жене Грибоедову, благо тот жил через квартал. Позже это стало повторяться, писателя выгоняли и возвращали, преследовали и ссылали, даже пытали – освистыванием, и Федор, когда вызванивал Илью в баню, напрягал мозг, пытаясь вспомнить, выгнан Мягков в данный момент или нет.
Сам Федор переживал период мексиканской любви с Пелагеей. Он еще не был тем занудой, каким стал позже. Федор декламировал Блока и пел на французском Дассена, он цитировал Канта и комично изображал Брежнева. Вечерами они встречались у Патриарших прудов, садились на изогнутую скамеечку и с нежностью держались за руки. У Пелагеи были красивые глаза, широкие скулы и светлые прямые волосы. Федор получил свой небоскреб счастья и жил на верхнем этаже.
Иннокентий не был зачат в тот шторм. Судьба подстроила все так, чтоб Федор женился предупрежденным и не мог винить в своих бедах обстоятельства, начальника или правительство.
Когда Федор заезжал за Пелагеей на Энгельса, Недоумова еще иногда улыбалась, еще казалась лучшим другом. Да, он сразу заметил странную зависимость Пелагеи от матери. Что бы ни делала дочь – везде торчали ослиные уши ее матери: красивая девушка, как и она, все время говорила «мужичонки», «бабешки» и «любовнички»; все мечтала уничтожить русскую эстраду и варила отвары по рецептам из гримуаров[8] папы Гонория (будущая теща, как выяснилось, увлекалась ворожбой и считала себя потомственной ведьмой). Федор, взяв на себя роль профессора Генри Хиггинса, неумело учил свою Элизу Дулиттл говорить правильно, боролся с человеконенавистничеством и отучал от мракобесия.
6
Пахарь на плуге. 11 1
7
Месье, я не ел шесть дней.
8
Книга заклинаний, молитв, рецептов и рекомендаций для мага и волшебника. 11 5