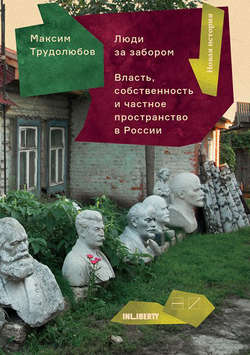Читать книгу Люди за забором. Частное пространство, власть и собственность в России - Максим Трудолюбов - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 1. Вход
1. Бездомные люди
ОглавлениеВ 1970 году все радовались переезду, особенно мой дед. Квартира в девятиэтажной новостройке теперь была его квартира – отдельная, трехкомнатная, выделенная ему, мастеру-электрику, ветерану войны. Ему было 55 лет, у него только что родился внук, он был счастлив. Это было уже не временное пристанище, не комната в доме на несколько семей, а настоящее отдельное место жительства. Вот теперь сорокалетний путь из деревни в город был завершен, что подтверждалось бумагами и паспортом с самой лучшей пропиской в мире – московской. Этот путь он начал в 15 лет, бежав из рязанской деревни Перевицкий Торжок.
Деревня стоит на Оке, на крутых холмах чуть выше села Константиново, где родился Есенин. Сюда можно и сейчас возить студентов-художников писать этюды. Место до сих пор почти не испорчено, а в то время наверняка было просто захватывающе красивым: высокий холмистый берег с видом на бесконечную равнину по другую сторону реки. Но заглядываться на красоту в 1930 году было некогда. Мой дед уехал из Перевиц, потому что, после того как народ согнали в колхоз, жить привычным хозяйством большой семьей стало голодно и невозможно. Сам он говорил, что уехал из-за трудодней: «Работать стали за трудодни. Нам палки в ведомости ставили. Отработал – палка. И все».
О красоте, оставленной позади, он вспоминал с гордостью. Считал, что у них было лучше, чем в Константинове. Рассказывал, как они с мальчишками прыгали в реку с обрыва. Рассказывал, что крутой холм под названием Маковище прямо напротив дома был на самом деле курганом и там можно было откопать татарские и русские черепа. Но рассказывал он это отстраненно, возвращался к прошлому редко, как эмигрант, давно потерявший связь с родиной.
Его первым занятием в городе была клепка котлов на асфальтовом заводе. Там же, под котлами, он, вместе с другими рабочими, в первое время и жил. Это была ужасная и оглушительная в буквальном смысле работа. Но на прекрасный косогор в родительский дом он возвращаться не собирался.
Никакой привязанности ни к одному из мест, где деду приходилось жить, я с его стороны не чувствовал. Пятачок между трамвайным кругом и платформой точно не мог казаться ему домом. Квартирой он гордился – получил за службу, – но гордился, по-моему, прежде всего документально утвержденным фактом ее получения. Место, новый район Беляево, было ему безразлично.
Он вырос в большой крестьянской семье, был одним из восьмерых детей, у него не было времени учиться. Но он стал человеком с городскими привычками и городскими амбициями – любил свою работу (электрик), любил книги, газеты, прогулки в парке и личные достижения. Ему важно было движение от места к месту, от ступени к ступени. И любое достижение он отмечал выпивкой, не видя в этом проблемы. Он принял правила города приезжих: двигаться вверх по ступенькам и не оглядываться. В городе лестниц больше, чем в деревне, – всегда есть куда стремиться.
Путь моего деда – путь большинства. То, через что прошел он, прошли почти все. Он родился в стране, где подавляющее большинство жителей (85 %), как и он, были крестьянами. Его судьба изменилась тогда же, когда у всех, – в 1929–1930 годах, когда началась массовая коллективизация. Он был на фронте, как и большинство его сверстников, и, в отличие от многих, выжил. Это второе главное событие его жизни. А третьим главным событием было то, что он получил отдельную квартиру. И это тоже случилось примерно тогда же, когда у многих из его сверстников. Он умер в стране, где подавляющее большинство жителей (74 %), как и он, уже были горожанами[2]. В стране, где родился мой дед, большинством были люди моложе 30 лет. Ко времени революции 1917 года более 60 % населения Российской империи были молоды. В стране, где умер мой дед, пожилых людей было уже больше, чем молодых. Сейчас людей моложе тридцати – меньше 40 %[3].
Это невероятное превращение случилось меньше чем за одну человеческую жизнь. Миллионы людей, как и мой дед, бежали из деревень, от голода и новых порядков, и те, кто выжил, перебрались в города.
Именно молодые люди, родившиеся, как и мой дед, в больших семьях в год революции – чуть раньше и чуть позже, стали первым «новым поколением». Новым в том смысле, что жизнь такого огромного количества людей оказалась совсем не похожей на жизнь всех предыдущих российских поколений. Стремление к заработку и образованию, конечно, и раньше приводило крестьян в города, но ничего подобного по масштабу не было. Миллионам новых пролетариев, и колхозных и городских, пришлось учиться жить заново. Родительский опыт только мешал. Образ жизни, привычный для их предков, перестал их кормить. Большие семьи стали им обузой. Прежняя вера была у них вытравлена и заменена новой.
Начало коллективизации, ликвидация «кулака» и форсированное строительство затронули подавляющую часть населения страны. За несколько недель были сломлены жизни более 130 миллионов крестьян Советского Союза[4]. По масштабу и последствиям конец 1929 года и первые месяцы 1930-го гораздо важнее октября 1917-го. Историк Николай Рязановский сравнивал коллективизацию с Крещением Руси. «Поскольку те события затронули бо́льшую часть русских и россиян, год 1929-й можно считать важнейшей переломной точкой русской истории, за исключением, возможно, года 988-го», – пишет он в книге о самоидентификации русских и россиян[5].
Эти молодые, сильные и бездомные люди, не успевшие толком привязаться к старому образу жизни, вынужденно осваивали новый. Они были чистым листом: готовы были слушать, воспринимать и работать. Они доказывали, сколько испытаний может перенести человек и в каких условиях может выживать. Ночлег на настоящей кровати, а не под котлом, возможность дослужиться до лишнего пайка значили для них больше, чем участие в великой стройке. «Стойкость и выносливость, а не трудовой энтузиазм были нормой для большинства. Стойкость не относится к Аристотелевым политическим категориям, но она сыграла свою политическую роль. Она помогла удержать гитлеровцев под Сталинградом, она же помогла народу пережить все испытания советской истории», – пишет Рязановский[6].
Все эти стойкие люди были еще и крайне плохо устроены в жизни – подсобки, землянки, казармы, бараки, общежития, коммунальные квартиры были их домом. Бездомность подавляющего числа граждан страны являлась, по сути, осознанным политическим выбором власти. Во-первых, жилое строительство было одной из жертв «великого перелома» 1929–1930 годов. Осознанное решение направить ограниченные ресурсы на оборону и тяжелую промышленность обрекло остальные отрасли экономики, в том числе строительство жилья, на «голодание». Капиталовложения в жилое строительство сократились, и даже официальные нормы жилой площади на человека к 1940 году были уменьшены почти наполовину. «Политика бездомности», конечно, не была описана в документах партии, но ее вполне возможно рассматривать как политику.
Во-вторых, жилищное «голодание» помогало политическому руководству направлять трудовые ресурсы по желанию: большинство получало жилье от предприятия, и люди стремились туда, где «давали» жилье. В приоритетных отраслях получить квадратные метры было легче. В-третьих, была еще прописка, дожившая в слегка трансформированном виде до наших дней. Обязательная регистрация по месту жительства позволяла следить за гражданами – и по официальным каналам, и с помощью добровольных помощников партии, – выявив врага народа среди соседей, можно было претендовать на освободившуюся комнату.
То, в чем участвовали, не зная того, миллионы новых пролетариев и колхозных крестьян, было невиданным экспериментом. Эта была попытка политической элиты получить заданный результат (коммунистическое общество, иначе именуемое «светлым будущим»), резко ускорив исторический процесс и жестко контролируя его ход. Это был контролируемый социальный взрыв. Теоретики и практики коммунизма-ленинизма планировали сымитировать и попутно усовершенствовать процесс, который в Европе длился несколько веков.
Голод и лишения неизменно объяснялись курсом партии на светлое будущее. И идея будущего действительно укоренилась в сознании граждан. Благодаря искусственной бездомности, на которую советские стратеги обрекли большинство граждан СССР, подлинным светлым будущим для них стала собственная отдельная квартира. Это стремление к отдельному жилью, к отдельности, к частной жизни, как мы увидим, определило и советское и постсоветское развитие страны.
В нашей истории было немало правителей, веривших в то, что исторический процесс, как металл, поддается технологическому воздействию. Петр I верил, что можно за одно поколение сделать Россию европейским правовым государством с настоящими чиновниками и военными. Советские лидеры были убеждены, что можно в пробирке получить индустриальную урбанизированную страну, минуя все стадии органического роста промышленного производства и городов. Постсоветские лидеры полагали, что можно создать рыночную экономику, минуя формирование институтов собственности и права. И не то чтобы совсем никому и никогда не удавалось перепрыгивать через историю и менять себя быстро – быстрые трансформации возможны, но гарантий успеха никогда нет. Чаще получается совсем не то, что задумывалось.
2
По данным первой Всеобщей переписи населения Российской империи, проведенной в 1897 году, менее 15 % населения, проживавшего в современных границах России, было городским. См.: Демоскоп Weekly. 2001. 10–23 сентября. № 33–34 http://demoscope.ru/weekly/033/tema01.php. О современной ситуации см.: Вот какие мы, россияне: Об итогах Всероссийской переписи населения 2010 года // Российская газета. 2011. 26 декабря.
3
Росстат. Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 2014 года http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_111/Main.htm.
4
Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. М.: МИК, 2000. С. 227.
5
Riasanovsky N. Russian Identities: A Historical Survey. New York: Oxford University Press, 2005. P. 216.
6
Ibid. P. 228.