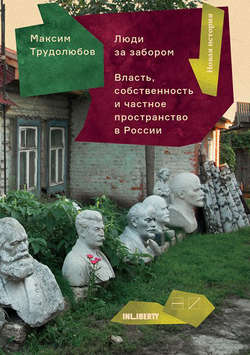Читать книгу Люди за забором. Частное пространство, власть и собственность в России - Максим Трудолюбов - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 1. Вход
4. Капитал поколений
ОглавлениеСтупени, по которым поднимался мой дед, были такие: выжить, прокормиться, найти крышу над головой, найти комнату, прописаться, получить отдельную квартиру и, если повезет, увенчать успех дачей и машиной. К концу жизни на его горизонте уже были и дача, и машина. От дачи он отказывался – не переваривал сельской жизни ни в каком виде. А машину получил: «москвич» ему полагался бесплатно от города, как ветерану и инвалиду войны. Он уже не мог сесть за руль, мог только из окна видеть, что машина стоит под окном. Сверху «москвич» выглядел как настоящая машина, его собственная. Дед мог считать свою программу выполненной.
Не было ничего низкого или смешного в этой цепочке – квартира, дача, машина. Мой дед, как и миллионы его ровесников, заплатил за эти городские достижения слишком дорого. Он и не знал, насколько дорого, потому что, слава богу, не мог знать современных исследований о советской экономике, которые я цитировал выше. Он не знал, что за каждый стул, стол, ковер, полку с книгами, шкаф с посудой, за проложенную дорогу, построенный дом и выпущенный автомобиль он заплатил во много раз больше, чем люди его возраста в странах за пределами железного занавеса. Ему не с чем было сравнивать свою жизнь, она была похожа на жизни тех, кого он видел вокруг. Для него не существовало взгляда «сверху» или со стороны. Когда я спрашивал у него, почему они в его время терпели все, что с ними проделывало начальство, он не отвечал и мне казалось, что не понимал вопроса.
Только теперь я стал думать, что задавать этот вопрос было жестоко. Это для моих родителей и меня существовали Солженицын и Шаламов, а ему и большинству его ровесников – сидевших и несидевших – достаточно было их собственного опыта. У поколения, прошедшего коллективизацию, лагеря и войну, было моральное право не знать всей правды советской истории. И это единственное поколение, для которого это извинительно; у следующих поколений такого права, конечно, нет.
Доблесть его поколения была не в том, чтобы обличить бесчеловечную власть и восстать на нее. Доблесть была в том, чтобы из нечеловеческих условий, в которых начинали жизнь все эти миллионы вырванных из родной среды бездомных людей, дорасти до человеческих. Достигнуть того светлого будущего, которое, в отличие от коммунизма, было достижимым, – получить отдельную квартиру. Пройти через мясорубку и выглядеть в конце жизни так, как будто и не было мясорубки. Стол, ковер, фарфор, хрусталь, квартира, дача, машина – это, конечно, всего лишь вещи. Но они были для дедушек и бабушек тем же, чем Обетованная земля для поколения Моисея. Моисею дано было ее увидеть, но не дано было в ней жить.
В миллионах семей были дедушки и бабушки, прошедшие советскую мясорубку ради жизни, похожей на настоящую. Они могли попробовать эту почти настоящую потребительскую жизнь на вкус только под старость и потому так ценили ее. Их послание следующему поколению, произносилось оно или нет, выглядело примерно так: мы заплатили, вы теперь живите.
В «обнулившейся» стране они начали жизнь с чистого листа, не имея ничего либо потеряв все. Им и позже приходилось проходить через новые и новые «обнуления». Когда жизнь идет органически, каждое следующее поколение опирается на задел предыдущего, в том числе и материальный. Но в России эти опоры словно специально выбивались у людей из-под ног. Экономист Владимир Южаков называет это «декапитализацией поколений». «Для основной массы населения страны ограничивалось не только потребление, но и возможность накопления. Экспроприация, национализация, коллективизация, запрет предпринимательства, наказание за него, мобилизационная экономика (заниженный уровень зарплаты, принудительный и фактически бесплатный труд на селе и в специально создаваемых для этих целей лагерях, принудительно-добровольные займы), репрессии, уничтожавшие огромные массы, в том числе активной части населения, не говоря уже о катастрофически снижавших потенциал поколений потерях населения от Гражданской и Великой Отечественной войны, голода – не полный перечень факторов и инструментов декапитализации российских поколений»[13].
Мы часто говорим о том, что в России большинство никак не отвыкнет ждать подачек от государства. Иногда это кажется нам чуть ли не нашей культурной особенностью. Но мой дед, как и миллионы его сверстников, не был настроен патерналистски. Он предпочел не сгинуть на поселении, не жить впроголодь в деревне, а отправился строить новую жизнь своими руками. Государственная коллективизация отняла у него опору, культурный и материальный капитал, созданный его отцом. Но то же государство стало для моего деда и его сына, моего папы, руководителем и работодателем – они не знали другого. Неизбежный патернализм большинства в России – это особенность не культуры, а истории. Это наш эффект колеи – зависимость от пройденного пути.
Эта особенность, конечно, не осознается и не формулируется большинством, но это данность, с которой все мы живем. «С каждым поколением люди становились все более зависимыми от государства, – пишет Южаков. – Возможности людей каждого следующего поколения самостоятельно решать свои проблемы не возрастали, а снижались»[14]. А если и не снижались, то начинать приходилось с нуля – после того, как все было потеряно во время революции, после того, как все было отнято во время коллективизации, и после войны, и после распада СССР. Вспомним, что в конце 1991 года в России произошло еще одно обнуление капитала предыдущего поколения, по потерям и падению потребления вполне сравнимое с революционным. Жизнь, в которой каждое поколение проходило через утрату и материального, и социального капитала, неизбежно будет особенной.
Следствий этой нашей взрывной, постоянно обнуляемой истории много. Наиболее важны такие: во-первых, постоянное ожидание помощи от государства, но – в случае разочарования – готовность пойти против государства. Во-вторых, это повторяемость ключевых тем для дискуссий от поколения к поколению. Книги, конечно, стоят на полках, но в живой памяти многие договоренности прошлого стерты, так что мы в который раз в нашей истории принимаемся спорить о путях развития, месте России в мире, ценностях. Культурный капитал каждое поколение начинает копить как будто с нуля.
Так и с материальным капиталом. Третье следствие – это стремление тех, кому доступна возможность накопления, делать это с полной отдачей и без всякой оглядки на окружающих и на страну. Брать, пока дают. Когда я смотрю на застроенные домиками пригороды, на большие и маленькие поместья, на виллы, купленные русскими за границей, то вижу эту программу накопления в действии. Я понимаю, что дети и внуки таких же дедов, как мой, до сих пор продолжают выполнять их завещание и остановиться не могут: еще один ремонт, еще одна машина, еще одна дача, еще выше, еще больше.
Это помогает понять огромные и вычурные дворцы. Ведь они – результат той самой завещанной программы, только давшей сбой и превратившейся в дурную бесконечность: если дед боролся за свои 5 квадратных метров, то у сына таких метров должно быть 500, а еще лучше 5 тысяч и участок в 30 гектаров с малым дворцом и фонтанами. А может быть, и все 10 тысяч метров и все 60 гектаров. Так что по-человечески можно понять и «дворец Миллера»[15], и «дворец Путина»[16], ведь они – тоже часть поколения, которому завещано жить счастливой потребительской жизнью. Они поняли послание чересчур буквально. Они как будто продолжают спасаться от бездомности, умножая количество квадратных метров.
Это не значит, что мы должны делать то же самое. Очень хочется понять, что на уме у следующих после «путинского» поколений – у третьего и наступающего ему на пятки четвертого. Мне кажется, что на уме у тех, кто родился в 1970-х и 1980-х годах, – не только движимое и недвижимое имущество. Инерция, конечно, велика, но невозможно себе представить, что пластинка так и будет бесконечно крутиться[17].
Мы говорили выше о том, что Россия – страна модернизированная, но только очень странным образом. В этой модернизированной реальности чего-то не хватает. «Старым», то есть немодернизированным, остается в основном то, что неосязаемо, – права не защищены, большинство групп населения лишено представительства на государственном уровне, само государство архаично и коррумпированно. Сама собой напрашивается идея приписать новому поколению именно эту задачу – завершение начатой большевиками модернизации. Это оптимистично сказано, но один пункт в этой программе точно должен быть: защита права собственности, точнее жизни, свободы и собственности как совокупности прав.
Если программой первых постсоветских 20 лет было продолжение стремления к советскому «светлому будущему», то есть к отдельной частной жизни, любой ценой, то должна ведь в конце концов быть воплощена и следующая программа – сохранение и приумножение построенного и накопленного. Заработали как могли – без законов и правил, а чтобы защитить собственность, законы и правила необходимы. Защитить собственность можно, конечно, за границей, что многие и делают. Но если вывод активов и вывоз детей за рубеж останется единственным способом надежного накопления, Россия навсегда останется, по сути, колонией. Она будет оставаться ресурсной базой для тех, кто в ней не живет – только на ней зарабатывает (подробнее об этом в главе 6).
Читать послание старшего советского поколения можно по-разному. Живите как? Заведите себе больше квартир, дач и машин? Постройте дом еще больше? Или лучше? Дело точно не в размерах. У младших советских – и всех последующих – поколений нет права не знать советскую историю. Это означает, что нас должно интересовать не только количество метров, но и их качество и красота. Стоит хорошо помнить и обо всем том, чего общество было искусственно лишено в силу особенностей советского периода истории, – защите права собственности и представительстве частных интересов на общественном уровне. Без общественной жизни частная оказывается слишком хрупкой. Вот уже государство у вас в городе (мешает вам проехать, потому что у него есть мигалка, а у вас нет), а вот во дворе (строит элитный гараж там, где вы раньше гуляли), а вот и в доме или квартире (проверяет регистрацию) и даже в постели (проверяет на предмет «пропаганды гомосексуализма»).
Это урок последних лет и программа на следующие годы. «Деколонизация» и создание стабильного правового режима в России не будут простой задачей и, скорее всего, приведут к конфликтам, но если исходить из того, что она нерешаема, то и строить планы на продолжение жизни, на строительство собственного дома в стране нет смысла.
Впрочем, обо всем по порядку. Начинать разговор о доме лучше с начала, то есть с забора.
13
Южаков В. Капитализация поколений // Ведомости. 2011. 22 августа.
14
Там же.
15
Седаков П. Памятник эпохе: Дворец подрядчика «Газпрома» // Forbes. 2010. № 82.
16
Шлейнов Р. Сор из дворца // Ведомости. 2010. 29 декабря.
17
Трудолюбов М. Программа Путина в действии // Ведомости. 2011. 18 февраля.