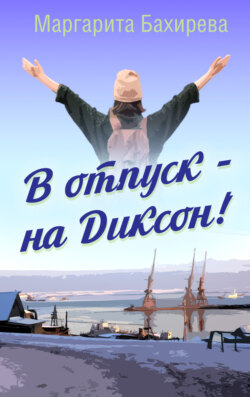Читать книгу В отпуск – на Диксон. Путевые заметки - Маргарита Бахирева - Страница 6
Часть I. В ОТПУСК – НА ДИКСОН. Путевые заметки
Мифическая страна
Здесь даже воздух детством напоен
ОглавлениеЦарства умирают на земле – Детство никогда не умирает.
В. Луговской
Абакан произвел впечатление разбросанного, небрежного города. Пыль, грязь. Народ тоже грязный и какой–то серый. Ни на ком не останавливается взгляд. Ох, уж эта привычка к «цивилизованному» внешнему виду. Как порой обманчив он. Может быть, каждый прохожий – самородок, но не вызывает интереса, поскольку до истинной сути человека нелегко докопаться. Лицом к лицу – лица не увидать – не я сказала. Впрочем, когда на следующий день зашла в книжный магазин, внимание тотчас привлек молодой человек, который с видом «знатока» покупал стихи. «Вероятно, поэт», – подумалось. Внешность, одежда мужчины: невысокого роста, распашонка «а ля художник» вместо пиджака – подчеркивали нестандартность.
Несколько лет тому назад родственники купили дом в Усть–Абакане. Это небольшой поселок, окруженный сопками, напоминающими лежбище слонов. С него когда–то начинался город Абакан. Поселения близ устья реки Абакан размещались еще с эпохи бронзы. В I веке до новой эры здесь находился так называемый «дворец Ли Лина». В 1780 годы возникло село Усть–Абаканское. А с 1925 года – посёлок Хакаск. Построенная позже новая часть города слилась с селом Усть–Абаканское и с 1931 года преобразовалась в город Абакан.
Где–то там, у подножья сопок, протекал Енисей. Но увидеть реку не удалось. Сначала ребятишки, двоюродные братья, намереваясь показать мне Енисей, собрались плыть на лодке. Взяли фотоаппарат, гитару и, вооружившись энтузиазмом, мы отправились к реке. Однако путешествие не состоялось. Как ни старались ребята, мотор не завелся, а на веслах далеко не уплывешь. Пришлось довольствоваться купанием в озере. Нарвали цветов и вернулись домой.
Мальчишки – совсем большие. Толик работает, учится в вечерней школе, увлекается мотоциклетным спортом. Геночка закончил пятый класс, занимается в музыкальной школе, обучаясь игре на баяне. Не проходит и минуты, чтобы не пел: поет, работая, играя и вообще каждую минуту. Люся (двоюродная сестра) перешла в восьмой класс. Бойкая, спортивная девочка, активистка. Еще недавно председатель совета пионерской дружины в школе, сейчас – комсомолка. Вступила в ленинские дни, в апреле, в Шушенском. Нынче удивила всех поездкой в Ленинград на слет красных следопытов. Ну а Сережка… Мой любимец. Симпатичный парень. Я так хотела, чтобы вырос благородный, воспитанный юноша, умный и образованный – он такой способный. Среда сделала свое дело. Парень активный. Спортсмен, имеет второй разряд по теннису, баскетболу, третий – по самбо. Готовится в техникум. А в детстве мечтал стать летчиком. Красивый, а одет небрежно. Это характерно для абаканцев. Вечерами бродит с гитарой, с ребятами. Увлекается девочками. Его «резиденция» – чердак, обклеена вырезками из журналов с красивыми девушками. Курит. Совсем взрослый. Но немножко не такой, каким я хотела бы его видеть.[1].Жизнь жестокой, бессмысленной и неумолимой силой, не встречая противодействия со стороны генетически пораженного неисправимой русской «вредной привычкой» разума, все устроила неизбежным образом. От детских мечтаний не осталось и следа.
В биологическом мире встречаются мужские особи, которые, выполнив функцию продолжения рода, сразу погибают. Нечто подобное происходит иногда и в роду людей. И если не физическая гибель, то полная атрофия интеллектуальных, духовных, нравственных и социальных функций. Человек становится балластом.
В отличие от мужчин, выживают, даже в самых неблагоприятных условиях, женщины, как биологически более жизнестойкие. Такой стала Люся, маленькая, хрупкая женщина, но мужественная, сильная, терпеливая, никогда не утрачивающая оптимизма, несмотря на безжалостность к ней судьбы. Да и к кому она – судьба–то – особенно жалостлива?
Гуляла по Абакану. В детстве я недолго жила здесь. Город изменился. Стал более современным. Выросли новые жилые массивы, изменилась планировка улиц, все сейчас утопают в зелени. Появилось много каменных домов. Раньше были в основном одноэтажные деревянные домики. В перспективе предполагается, что город станет расти вверх.
Побывала в краеведческом музее.
Удивительно, но прогулка по Абакану не вызвала никаких воспоминаний детства. Неужели также воздействует Таштып? Я ведь возлагаю на него большие надежды и строю творческие планы.
В Таштып съездили с бабушкой. У нее там оставались старые знакомые. Моя бабушка – человек удивительный. Добрейшей души.
Веселая. Постоянно что–то напевала, дедушка в молодости звал ее «сарафанное радио». Всех людей считала только хорошими. После того как взрослые дети с семьями разъехались по разным городам, бабушка каждый год навещала их. Затем рассказывала, какие хорошие попутчики в купе попались. Я как–то спросила: «А плохие тебе когда–нибудь попадались?» «Нет», – ничуть не сомневаясь, ответила. Бабушка любила животных, с ней даже куры «разговаривали», когда выходила покормить, а собака – дворняжка «улыбалась».
Так уж и улыбалась? – посмеивалась я.
Да, улыбалась, – настаивала бабушка. Любила цветы, которые выращивала на огороде. А какие огромные, всем на удивление, словно дыни, желтые сладкие помидоры «бычье сердце» привозила нам в гостинцы! Сейчас помидоры, под названием «абаканские», стали продавать и в нашем городе, но они совсем не похожи на те, настоящие. Находясь в гостях (мы снимали тогда частный дом на окраине города, недалеко от леса), рано утречком успевала сбегать за земляникой, чтобы подать к завтраку, а то на опушку за рыжиками. Прекрасная кулинарка, умела из ничего приготовить что–нибудь вкусненькое.
Ехали комфортабельным рейсовым автобусом. Когда же, в 1949 году, выезжали из Таштыпа, то добирались до Абакана на обычной грузовой машине. В памяти осталось, до сих пор при воспоминании болью отзываясь в душе, как за нами долго бежала наша собака – дворняжка «Жучка». Мы в голос ревели с сестрой, прося взять ее с собой, что, конечно, было невозможно. Лишь в Абазе, пробежав несколько километров, измученная, отстала от нас, пополнив свору голодных и бездомных собак. Что сталось с ней?..
По воспоминаниям детства, Таштып – довольно большое село. Расположено в котловине, по обоим берегам шустрой реки, и окружено со всех сторон почти вплотную подступающими синими горами с дикой таинственной тайгой. Потому казалось оторванным ото всего мира, а весь мир тогда – заключенным в нем.
Таштып поразил и приятно порадовал заповедностью, свежей, первозданной красотой, такой естественной и в то же время необычной, как все в детстве. Синие горы, покрытые лесом. Чистая, неглубокая речка у обрыва тихо журчит, переговариваясь с галькой. Мы проводили на ней все летние дни. Взявшись за руки, переходили вброд. Мост через реку увешан ребятишками, и сегодня выглядит также. Киоск, где продают мороженое. Те же вывески «Раймаг», «Сельмаг» и особо любимый магазин «Книги». Я долго позже рылась в нем, стараясь отыскать что–нибудь интересное. В таких глухих местечках всегда можно найти нужную и редкую литературу недоступную в большом городе. И это мне удалось. Обогатилась еще одним томом Паустовского, которым в то время увлекалась. Вот и детсад, и ясли, куда ходила младшая сестренка; здание райкома, где работал заместителем первого секретаря отец; дома, где когда–то жили. Все казалось таким родным, как будто и не уезжал никуда. Как будто и не проходило этих восемнадцати лет.
Остановились у давнишней бабушкиной приятельницы – Евдокии Ивановны Язовской, в маленькой деревенской избушке – кухня и горница. Жила старушка одна: дети, как и у большинства местных старожилов, давно разъехались по разным краям. Кормилась, в основном, с огорода, да что лес давал, что обычно для деревенских жителей.
Почти сразу же я бросилась осматривать село, отыскивать прежде знакомые места. Побывала у школы – двухэтажного белого, в свое время, пожалуй, единственного каменного здания, и потому казалось оно особенно большим. Здесь я училась с первого по четвертый класс. Более всего помнится первый день в школе.
Школьный двор тогда выглядел необычайно торжественным. Со всего села с цветами стекались сюда школьники. Среди старшеклассников мы, первоклашки, чувствовали себя смущенно и неуверенно. Как видно по фотографии тех лет, на нас не было ни шерстяных форм, ни капроновых бантов, все смешно и бедно одеты. Но это не мешало нам чувствовать себя счастливыми.
Если бы не один эпизод…
Нас было несколько девчонок–ровесниц, которые в сентябре 1945 года пошли в первый класс. И среди них Аля Долинина и я, неразлучные подружки с шести лет. Мы не мыслили, что сможем учиться отдельно. И вот нас распределяют в разные классы. К тому же у Али красивая молодая учительница. Моя же не нравится мне. Я в рев. Меня пытаются уговаривать, ничто не помогает. Я вообще не хочу идти в школу. Родители и учителя в смятении. Все улаживается лишь после того, как нас помещают вместе, да еще на одной парте.
На первом уроке учительница читала рассказ Короленко «Дети подземелья». Содержание настолько потрясло, что я едва дождалась следующего дня, чтобы опять пойти в школу и услышать продолжение.
1
Сергей в восемнадцать лет покончил с собой, наглотавшись таблеток. Связался с преступной компанией: угнали и разбили мотоцикл; дружков посадили. Из колонии шли письма, возможно, с угрозами. После смерти нашли записку, адресованную девушке: «Г. Я тебя люблю».