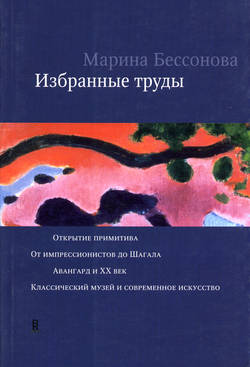Читать книгу Избранные труды (сборник) - Марина Бессонова - Страница 5
I. Открытие примитива
Истоки творчества Руссо и Пиросмани. Вотивная картина
ОглавлениеПри всей загадочности натуры Руссо, поражавшей современников смесью простодушия и лукавства, подчас граничившей с чем-то дьявольским, при обилии пустых мест в биографии, обросшей легендами и потому не дающей ясного ответа о домашнем образовании, юношеских увлечениях и серьезных занятиях зрелого возраста, вплоть до выхода на пенсию после канцелярской работы в парижской таможне, при всех многочисленных контактах с художниками-профессионалами, как с ретроградами, так и новаторами, несмотря на регулярное участие в ежегодных выставках парижских Салонов и, наконец, невзирая на свои неизменные прогулки по Лувру, – Руссо-Таможенник остается для нас прежде всего «наивным» художником, маленьким клерком по роду занятий и мелким буржуа по социальному положению. По данным биографии, самоучка во всем – в литературных занятиях, на скрипке и в живописи – он неожиданно, как черт из банки, «выскочил» перед изумленными художниками с Монмартра и членами жюри Независимых. С нищей разноплеменной молодежью Бато-Лавуар роднил его демократизм, плебейская независимость квартала Плезанс, в котором жил Руссо и который запечатлен на его полотнах. Он любил жителей своего квартала, мелких лавочников и таких же, как он, пенсионеров; кормил их и учил бесплатно музыке и рисованию. Кем бы ни воображал себя Руссо, в действительности он испытывал родственные чувства к простым людям, живущим вне шума Больших Бульваров и Парижской Оперы, вдали от несущихся с большой скоростью экипажей, от аристократических салонов и гостиных, модных курортов, которые так привлекали импрессионистов и ошеломляли попадавших впервые во Францию молодых художников из окраинных стран Европы. Муза Руссо бродила по тихим парижским улочкам, отдыхала в уединенных, почти безлюдных в дневное время садах, таких как парк Монсури, куда еще в середине прошлого века не рекомендовали ходить дамам из приличных семей, поскольку это далеко, опасно и можно увидеть или услышать что-нибудь непристойное. А с холмов парка Монсури, куда перевезли в 1860-х годах со Всемирной выставки нелепый павильон в виде эклектического палаццо и открыли в нем обсерваторию, Руссо мог видеть луга и огороды, сады и мельницы парижских предместий.
У парижских застав, считавшихся тогда окраинными, можно было найти укромный уголок и посидеть на зеленом берегу, под мостом, с удочкой или за мольбертом. Руссо никогда не тянуло работать на пленэре в прямом смысле слова, как это было принято у его современников. Он не ездил в Булонский лес, по словам Дега, до того «замусоренный мольбертами», что и шагу ступить негде. Для него не существовало пейзажа в качестве творческой лаборатории художника; он не ставил перед собой извечной проблемы профессионального пейзажиста – изобразить неповторимый в своем очаровании, на глазах меняющийся, пронизанный движением объект природы на двухмерной плоскости картины. Приходя в свою мастерскую на улицу Перрель, он садился перед мольбертом, закрывал глаза, сосредотачивался и затем с кистью в руке «вспоминал» на холсте ласкающие душу уголки природы окраинного Парижа, воображая, что сам он в данный момент сидит за мольбертом на зеленой лужайке, под мостом, мимо которого проходил каждодневно, разнося бумаги таможни.
Там, по булыжным мостовым, грохотали медленно ползущие тележки «папаш Жюнье», в лавки привозился нехитрый товар, слышался разговор на арго. Отсюда, от тех же лавок, всей семьей провожали хозяина, отправлявшегося за товаром на сельскую ярмарку. Жизнь текла размеренно, неторопливо, как в провинции. Это был Париж Руссо, столь не похожий на шумную, нарядную, блистательную столицу Европы. Он напоминал Руссо милый его сердцу Лаваль, где прошло детство, или скромный Анжер, где он учился в военной школе.
В квартале Плезанс и у застав можно было встретить новобрачных, только что вернувшихся из церкви, в городе столкнуться со свадьбой, так похожей на деревенскую; в маленьких кабачках посидеть с отставными вояками, которые только что сфотографировались на память, и послушать про их доблестные подвиги. Перед входами маленьких ресторанчиков и лавчонок красовались живописные вывески, на стенах висели бесхитростные, неумелые картины ремесленников, главным образом натюрморты и марины. Все дышало постоянством и уютом, но персонажи, забредавшие в эти тихие уголки, менялись; соседи делились разными событиями, ибо это все-таки город, а не деревня, что давало неисчерпаемые сюжеты для новых полотен.
Руссо жил в той специфической среде, где история, впервые рассказанная на авеню де л’Опера, на улице Перрель, изменялась до неузнаваемости, приобретая новые краски и сюжетные ходы; то же происходило и с модой, убранством комнат или оформлением витрин в лавках. Сегодня эту среду в недрах цивилизованного общества принято называть третьим промежуточным культурным слоем между городом и деревней (от одного жизненного уклада ушли, а к другому еще не приспособились). Существенно, что этот слой, или «переходный этап», сумел выработать свой собственный, состоящий из более или менее устойчивых элементов язык; свои приемы осовременивания традиционных форм сельского фольклора, с одной стороны, и комментирования наиболее типичных явлений профессионального искусства, с другой. Когда магазин готового платья рекламирует свою продукцию, то на его вывеске перед входом фигуры моделей одеты по последней моде, но застыли в позе святых на иконе или орнаментальных фигурок на предметах сельского домашнего обихода. Их форсированная импозантность восходит к персонажам расписной мебели в зажиточных деревенских домах и трактирах. Со свободой «незнания» вывесочник, не задумываясь, вписывает фигуры укороченных пропорций в кажущиеся слишком тесными для них створки и достигает своей главной цели – суммируя детали, с точностью демонстрирует наряд. Народные истоки такого ремесла налицо: им вывесочник обязан свободой обобщения, умением превратить изображение в знак, идеограмму. Однако городскими эти ремесленные картины становятся не только благодаря сюжету, адресу и функциональному смыслу. Фигуры вывесок городских лавок обладают подчеркнутой персональностью, конкретностью. Это всегда «одинокие» фигуры: один раз увидев, их запоминаешь надолго. Они становятся жителями этой улицы. Порой их называли, давая вымышленные имена, иногда невольно ассоциировали с хозяевами данного заведения. Это забавные и всегда немного грустные персонажи. Подобно своим создателям, они порвали с прародителями, вырвались из ритмично организованного целого, перестав быть его элементами. Продолжая изъясняться на прежнем, отработанном вековыми традициями языке, они слегка удивленно и меланхолично взирают на разворачивающуюся перед ними суматошную картину городской жизни. Вывесочникам редко удавалось стать собственно художниками, даже в пределах пресловутого третьего слоя культуры. Для этого нужно было обладать талантом Пиросмани, сумевшего превратить трактирную вывеску в живописную фреску, уподобив ее средневековым храмовым росписям.
Если обратиться к портретам и групповым сценам Руссо, то в них очевидна пугающая сила вывески: заимствованы ее грубый язык, плоскостность, деформирование пропорций, застылость выражений на лицах, придающая им замкнутый, отрешенный характер, какая-то «заколдованность». В данном случае неважно, носит ли эта зависимость от низовой городской культуры первичный или вторичный, опосредованный характер. Изобразительное сходство не вызывает сомнений. Оно-то, безусловно, и привлекло к себе внимание авангардистов, для которых очарование городского фольклора было бесспорным. Но Пикассо, Аполлинер и Макс Жакоб вряд ли восхищались только внешними признаками вывески в картинах Руссо. Было нечто специфическое в стиле Таможенника, что вызвало такой энтузиазм у творцов искусства XX века. Персонажи Руссо, будь то дети на его знаменитых портретах, неизвестные горожане или музыжены, излучают особое напряжение, спрятанное за застылыми чертами лица-маски глубокое волнение, экспрессию, что и делает их столь выразительными. Руссо одухотворил вывеску, доведя до предела противоречия, заключенные в этой форме ремесленного искусства, построив на этих противоречиях свою стилистику. Его персонажи, сдержанные внешним строгим контуром и открытыми чистыми плоскостями цвета, безмолвно «кричат» от распирающей их энергии. Это подспудное накопление сил, готовящийся взрыв формы почувствовали кубисты и Кандинский, выставивший работы Руссо на показе картин группы «Синий всадник» в Мюнхене.
Острое противоречие между имперсональными и в своей основе монументальными формами народного искусства и потребностью выразить в этих формах глубоко личное переживание достигло в портретах Руссо своей кульминации, стало их главной характеристикой. Руссо создает искусство на грани имперсонального и личного, но так, что мы ощущаем самый процесс этой борьбы.
Установив кровную связь стиля Руссо с работами безымянных ремесленников, мы вправе поставить вопрос, были ли у него предшественники? Есть ли у этого стиля свое окружение, своя история уже в сфере собственно искусства, не ремесла? Тем более, что сразу после смерти Руссо его творчество стало знаменем, эмблемой третьей низовой культуры.
В последние десятилетия в поле зрения исследователей попали так называемые ex voto – вотивные живописные картинки, приносившиеся в дар церкви со святыми мощами или с чудотворными изображениями по обету. Впервые на них обратил внимание еще перед Первой мировой войной Василий Кандинский, обнаруживший их в этнографическом отделении Баварского национального музея в Мюнхене. Картинки, исполненные на досках, реже – на бумаге, состоят из двух частей – собственно изображения и сопровождающего его разъяснительного текста. Ех voto были распространены во всех католических странах Центральной Европы с XVI столетия.