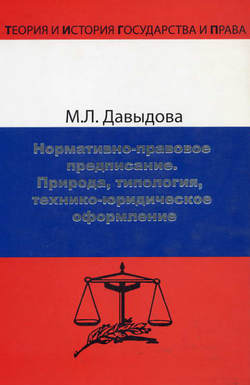Читать книгу Нормативно-правовое предписание. Природа, типология, технико-юридическое оформление - Марина Давыдова - Страница 5
Глава I. Понятие и технико-юридическая природа нормативно-правового предписания
§ 2. Признаки и определение нормативно-правового предписания
ОглавлениеОбосновав общую концепцию исследования, необходимо непосредственно обратиться к признакам изучаемого явления и определению его понятия (как того требует формально-юридический метод).
В теории НПП этот вопрос нельзя считать достаточно разработанным. Несмотря на значительную популярность понятия НПП в научной литературе, количество различных его определений невелико. Во многих исследованиях, связанных с данным понятием, дефиниция НПП вообще отсутствует[79]. Большинство авторов ограничиваются цитированием двух общеизвестных определений – А. В. Мицкевича[80] и С. С. Алексеева[81], не формулируя при этом собственного. Даже работы А. Л. Парфентьева[82], Т. Н. Мирошниченко[83], Ю. В. Блохина[84], А. П. Заеца[85], специально посвященные данной тематике, обходятся без авторской дефиниции НПП, исследуя лишь признаки, выводимые из перечисленных определений.
Причины такой ситуации, как представляется, следует видеть в том, что уже в первой в отечественной правовой науке дефиниции НПП А. В. Мицкевичу удалось подчеркнуть все основные моменты, наиболее важные для понимания сущности НПП вне зависимости от подхода к данному понятию.
Согласно определению, данному А. В. Мицкевичем, НПП – это то или иное логически завершенное положение, прямо сформулированное в тексте акта государственного органа и содержащее обязательное для других лиц, организаций решение государственной власти[86]. Обычно в литературе указывается на две основные черты НПП, зафиксированные в этой дефиниции:
– общеобязательное решение государственной власти (государственно-властное веление);
– грамматическая выраженность в тексте акта государственного органа[87].
Первый из этих признаков, характеризуя содержание НПП, сближает его с ПН. Второй признак освещает формальную сторону НПП. Именно сочетание указанных свойств НПП и определяет его качественное своеобразие в ряду таких правовых явлений, как ПН и нормативный акт[88]. И именно эти свойства определяют то главное в сущности НПП, что признается, как было показано, абсолютным большинством исследователей, – неразрывное единство формы и содержания.
Принципиальное значение названных двух положений несколько затеняет третий признак, который может быть выведен из определения А. В. Мицкевича:
– логическая завершенность веления.
Второе общеизвестное определение было предложено С. С. Алексе евым. В соответствии с ним НПП – это элементарное, цельное, логически завершенное государственно-властное веление нормативного характера, непосредственно выраженное в тексте нормативно-правового акта[89]. В нем, кроме названных А. В. Мицкевичем трех признаков, выделяются еще три:
– нормативный характер;
– цельность;
– элементарный характер.
Существуют и другие определения. Н. Н. Вопленко понимает под НПП правотворческое веление общего характера, содержащееся в тексте источника права и выступающее в качестве логически сформулированного требования, подкрепленного возможностью государственного принуждения[90]. Автор выводит из своего определения следующие признаки:
1) властное веление общего характера;
2) правотворческое оформление в виде содержания официальных источников права;
3) опора на возможность государственного принуждения.
В. М. Сырых определяет НПП как цельное, логически завершенное и формально закрепленное в тексте нормативно-правового акта властное веление правотворческого органа[91]. По мнению В. В. Лазарева и Т. Н. Радько, НПП – это государственно-властное веление, получающее логически завершенное, формально определенное закрепление в официальном тексте[92]. К уже названным признакам здесь прибавляется – формальная определенность.
В литературе называют и другие признаки НПП. Так, А. Л. Парфентьев выделяет три признака:
1) государственно-властное веление, представленное непосредственно в тексте правового акта;
2) такой первичный элемент системы законодательства, в котором выражается определенное правовое отношение между субъектами права;
3) имеет двойственную природу: с одной стороны, включается в ту или иную часть внешней структуры акта (статью, пункт и т. д.), с другой – выступает в качестве элемента внутреннего содержания акта[93].
Очевидно, здесь можно говорить не о трех, а о пяти характеристиках НПП:
– государственно-властное веление;
– непосредственная представленность в тексте правового акта;
– первичный элемент системы законодательства;
– выражение определенного правового отношения между субъектами права;
– двойственная природа.
А. П. Заец, рассматривая юридическую природу НПП, акцентирует внимание на двух основных чертах:
– правовом характере и
– нормативности[94].
В качестве главной черты называет нормативность НПП и П. Б. Евграфов, указывая, что последняя непосредственно вытекает из нормативности государственной воли, составляющей содержание НПП[95].
Рассмотрим, что представляет собой каждый из перечисленных признаков.
1) Государственно-властное веление – это один из двух основных признаков НПП. В отечественной правовой литературе понятие веление государственной власти достаточно подробно рассмотрено применительно к категории ПН. Связь ПН с государством анализируется с помощью понятий «государственно-волевой характер»[96], «государственная обязательность»[97], «государственно-властный характер»[98], «устанавливаемость государством»[99], «связь процесса формирования ПН с государственными органами»[100]. Проблема связи НПП с государством вытекает из проблемы соотношения государства и права в целом и, следовательно, не может рассматриваться с помощью одной категории приоритета[101]. Однако формальная зависимость НПП от государственных органов как на стадии создания, так и на протяжении всего времени действия очевидна. Зависимость эта проявляется в двух аспектах:
– НПП устанавливаются государством;
– обеспечиваются силой государства.
Следует согласиться с В. Н. Карташовым в том, что для характеристики современного права термин «государственно-властное веление» становится слишком узким. НПП содержатся в нормативных актах органов местного самоуправления, негосударственных организаций и т. п. Правильнее поэтому называть их властными велениями[102]. Использование традиционного термина «государственно-властное веление» в настоящей работе объясняется, в первую очередь, стремлением указать на то, что НПП – это веления не только устанавливаемые, но и признаваемые, поддерживаемые государством, опирающиеся на его авторитет.
2) Опора на возможность государственного принуждения является одним из важнейших признаков права в целом, условием его существования и функционирования как общеобязательного регулятора поведения людей.
Однако, указывая в качестве главного признака, что НПП является велением государственной власти, мы, в первую очередь, имеем в виду его обеспеченность, гарантированность принудительной силой этой власти. Властность веления подразумевает его обязательность[103], а следовательно, защиту со стороны государства.
3) Называя в качестве признака НПП его правовой характер, А. П. Заец также подразумевает, что НПП устанавливаются государством, обеспечиваются мерами государственного воздействия и являются поэтому общеобязательными требованиями[104]. Очевидно, аналогичный смысл вкладывается в понятие «государственно-властное веление».
4) Второй определяющий признак НПП – непосредственная выраженность в тексте нормативно-правового акта. М. М. Бахтин писал, что текст – это первичная данность для лингвистики, филологии, литературоведения, истории, права и вообще всего гуманитарно-философского мышления, он «является той непосредственной действительностью (действительностью мысли и переживаний), из которой только и могут исходить эти дисциплины и это мышление. Где нет текста, там нет и объекта для исследования и мышления»[105]. Именно поэтому «не следует рассматривать законодательный текст как нечто сугубо формальное, чисто документальное. В законе нет ничего иного (ни большего, ни меньшего), кроме того, что выражено в тексте – в словах, словесных формулировках. Только и исключительно через них закон раскрывает свое содержание, “входит” в общество, в жизнь людей»[106]. Образно говоря, право[107] – это не мысль законодателя, это его слова.
5) Вероятно, двойственная природа, выделенная А. Л. Пар фентьевым в качестве признака НПП, представляет собой не что иное, как единство формы и содержания НПП, которое следует из сочетания двух его основных черт.
6) В качестве одной из главных черт НПП выступает нормативность[108]. Сущность этой категории заключается в направленности на регулирование вида общественных отношений, внесение в них общеобязательного порядка, установленной меры[109]. Это внутреннее качество НПП оформляется внешними признаками нормативности. По поводу определения количества этих признаков в литературе существует две основных точки зрения. Автором первой является И. С. Самощенко, выделивший два главных признака: (а) неконкретность (неперсонифицированность) адресата и (б) периодичность (постоянный характер) действия[110]. А. В. Мицкевич добавил к ним третий признак: (в) сохранение действия независимо от исполнения[111].
Отмечая достаточно спорный характер последней позиции, А. П. Заец указывает, что идея А. В. Мицкевича является плодотворной, поскольку позволяет сконцентрировать внимание на сохранении действия НПП как на конечном результате, итоге влияния регулируемых отношений на эти НПП[112]. Поэтому многие правоведы вслед за А. В. Мицкевичем перечисляют три названных признака нормативности[113].
Однако другие ученые считают выделение третьего признака излишним. По мнению И. С. Самощенко, периодичность действия НПП охватывает как возможность неоднократного применения, так и то, что НПП не исчерпывается однократным исполнением[114]. Ю. В. Болхин указывает, что признак периодичности имеет несколько значений. В одних случаях он означает повторность, неоднократность применения НПП, в других – непрерывность, постоянство их действия[115]. В связи с этим именно неконкретность адресата и возможность неоднократного применения НПП рассматриваются как общеродовые, универсальные признаки нормативности[116].
7) Формальная определенность, по мнению Н. Н. Вопленко, проявляется в том, что:
– НПП издаются или санкционируются строго определенными органами,
– в четко определенном порядке,
– выражаются в формализированных источниках,
– вступают в силу и прекращают свое действие в соответствии с установленной юридической процедурой[117].
П. Е. Недбайло указывает также на то, что они устанавливают точно определенные права и обязанности участников общественных отношений[118]. Следует, однако, согласиться с О. Э. Лейстом в том, что подобная абсолютизация формальной определенности НПП (и права вообще) недопустима и приводит к преувеличению их императивности (в том числе и норм, предоставляющих различные права)[119]. Формальная определенность понимается большинством авторов именно как «определенность правовых норм (читай «НПП». – М. Д.) по форме, т. е. понятие, не затрагивающее логико-юридическое содержание нормы»[120]. Исходя из этой позиции, ясность, четкость, недвусмысленность – одним словом, определенность содержания[121] НПП – это, скорее, не признак, а требование, обусловливающее эффективность его действия.
Таким образом, в признак формальной определенности НПП можно включить следующие элементы:
– НПП издаются управомоченными органами в строго определенном порядке;
– находят свое отражение в нормативных актах (определенной юридической силы и сферы действия во времени, в пространстве и по кругу лиц).
8) А. Л. Парфентьев указывает также на то, что в НПП выражается определенное правовое отношение между субъектами права. По нашему мнению, данное положение не может быть рассмотрено как родовой признак НПП. Правовые веления, закрепленные в тексте нормативного акта, разнообразны. Как будет показано ниже, далеко не каждое из них несет в себе правило поведения, и не каждое имеет результатом своей реализации правоотношение. Такие признаки как предоставительно-обязывающий характер[122], модель регулируемых общественных отношений[123], модель взаимодействия соответствующих субъектов[124] считаются обычно присущими ПН. Ввиду того, что нами не ставится знак равенства между категориями «ПН» и «НПП», перенос данных признаков на понятие НПП представляется необоснованным.
9) Тот факт, что НПП является начальным элементом системы законодательства, характеризует, вероятно, не само понятие НПП, а его место в правовой системе. Поэтому правильнее рассматривать его не в качестве признака НПП, а в качестве черты, определяющей его значение в системе категорий правовой науки.
10) Обязательной чертой НПП считается его логическая завершенность. С синтаксической точки зрения, существенным признаком завершенности коммуникативной единицы языка является ее контекстная свобода, или самодостаточность единицы[125]. Она предполагает отсутствие необходимости обращения к внешним источникам информации. Мысль законодателя выражена здесь от начала и до конца, смысл веления может быть понят без учета контекста.
При этом и лингвисты, и правоведы подчеркивают относительность этой логической завершенности[126]. Так, по мнению А. Л. Парфентьева, относительность логической завершенности НПП обусловлена тем, что оно не может регулировать общественные отношения изолированно от других, тесно связанных с ним НПП[127].
11) Как подчеркивает П. Б. Евграфов, каждое НПП представляет собой относительно завершенное юридическое целое[128]. Цельность как признак НПП не тождественна логической завершенности. Понятием, противоположным цельности, является дробность. Цельный характер НПП означает, что оно представляет собой внутренне согласованное правовое веление, элементы которого объединены общим смыслом, образуя некое единство, целостность. Все части целого неразрывно связаны между собой. Вынесение элемента за пределы внутренней структуры, раздробление НПП ведет к нарушению его целостности. Отсюда, невозможно изложение одного цельного НПП в нескольких частях нормативного акта или нескольких актах.
12) Со сказанным выше согласуется представление об элементарном характере НПП. Это означает, что НПП представляет собой минимальное веление законодателя, и попытка «расчленить» его на более мелкие правовые требования неизбежно приведет к потере смысла. Из этого вовсе не следует, что НПП не может быть разделено на структурные части, но ни одна из этих частей, взятая в отдельности, не является самостоятельным логически завершенным велением. Каждое слово законодателя «работает» здесь на формулирование одного конкретного НПП.
Последние три признака НПП в совокупности делают необходимой постановку вопроса о той грамматической единице текста, в рамках которой «материализуется» НПП.
Ввиду всего сказанного о сущности НПП, вопрос этот имеет принципиальное значение. Основным формальным признаком НПП является его непосредственная выраженность в тексте правового акта, поэтому исследование структуры текста в данном случае обязательно.
В первую очередь следует подчеркнуть: большинство правоведов признают, что словесная организация НПП в значительной мере предопределяет его конкретные признаки как регулятора общественных отношений[129]. Это объясняется непосредственной связью языка и мышления[130]. Вильгельм Гумбольт отмечал, что именно «язык есть орган, образующий мысль»[131].
Среди теоретиков права широко распространено мнение, что единицей текста, соответствующей отдельному НПП, является предложение[132]. Ю. В. Блохин указывает, что НПП составляет смысловое содержание предложения, тогда как предложение является носителем этого содержания, средством его грамматической организации и выделения в тексте правового акта[133]. В результате НПП выступает как цельная логико-грамматическая формула[134], которая не может быть раздроблена на несколько грамматических частей (предложений, фраз) даже в пределах одного акта[135].
Для того чтобы подтвердить либо опровергнуть это суждение, необходимо обратиться к самому понятию предложения и его значению с позиций современной науки о языке[136].
В русской грамматической традиции, начиная с XIX в., предложение рассматривалось большинством ученых в качестве основной синтаксической единицы[137]. Все возможные разногласия[138] по этому вопросу были окончательно преодолены в первой половине XX в. в трудах академика В. В. Виноградова, разработавшего учение о предложении как основной коммуникативной единице[139]. В настоящее время предложение признается центральным объектом синтаксиса во всех современных синтаксических концепциях[140].
Так, известный австрийский языковед Карл Бюллер рассматривает предложение как мельчайшую самостоятельную смысловую единицу речи[141]. Э. Бенвенист, наоборот, считает предложение конечной единицей в уровневой системе языка[142]. В. С. Юрченко обосновывает утверждение о том, что предложение является исходной единицей языка, первичной по отношению к слову[143]. Немецкий лингвист Й. Рис обнаружил в научной литературе около 140 различных определений предложения[144]. Как подчеркивает К. Бюллер, такое обилие дефиниций возможно лишь для ключевых понятий какой-либо сферы[145]. Поэтому, вероятно, справедливы слова В. А. Звегинцева: «Изучать предложение – это значит изучать язык, но и наоборот: изучать язык – это значит изучать предложение»[146].
Итак, в современном славянском языкознании предложение рассматривается как единица и языка, и речи[147]. На сегодняшний день синтаксическую науку отличает взгляд на предложение как на многоаспектное явление, как на комплекс нескольких относительно независимых (хотя и взаимосвязанных) устройств. Выделяют три стороны рассматриваемого явления: 1) формальную, 2) коммуникативную, 3) семантическую[148].
Семантическая (т. е. смысловая[149]) структура предложения была выделена как особый научный объект сравнительно недавно – в 60-х гг. XX века. Интерес к этой проблематике был стимулирован целым рядом факторов, в первую очередь взаимодействием лингвистики с логикой, относящейся с обостренным вниманием к содержанию предложения[150].
Результатом такого взаимодействия явилась, в частности, концепция о теснейшем диалектическом единстве предложения и логической фразы. Под логической фразой понимают мысль, представляющую собой цельное и одновременно расчлененное отражение действительности, соотносящую с ней свое содержание, обладающую структурной независимостью и относительной законченностью мыслительного процесса и выступающую в силу этих свойств в роли единицы процесса мышления[151]. В литературе указывается, что предложение как коммуникативная единица речи является выразителем логической фразы[152]. Всякая логическая фраза может быть воспроизведена только с помощью предложения, и всякое предложение заключает в себе логическую фразу[153].
С позиции сказанного утверждение о совпадении предложения и НПП, т. е. мельчайшей смысловой единицы законодательства, представляется вполне обоснованным. Следует, однако, сделать некоторые оговорки.
Во-первых, вряд ли стоит абсолютизировать выводы какой-либо научной дисциплины (будь то логика, филология, социология или кибернетика) и полностью переносить их в теоретико-правовое исследование. Данные других наук требуют определенной обработки, осмысления, преломления применительно к предмету теории права.
Во-вторых, в настоящее время мнение о том, что предложение является не только основной, но и единственной коммуникативной единицей речи[154], подвергается пересмотру. Интенсивно ведется поиск единиц выше уровня предложения[155]. К ним относят сложное синтаксическое целое, сверхфразовое единство, период, абзац, параграф, дискурс, текст и др.[156] При этом часть ученых считают перечисленные уровни дополнительными по отношению к основному – предложению[157]. Другие же, наоборот, утверждают, что текст членится только на группы предложений, каждое из которых не является самостоятельной единицей[158]. Третьи указывают на то, что существует две разновидности предложений: одни могут функционировать самостоятельно и, следовательно, занимать в тексте обособленную позицию (коммуникативно сильные), а другие – только входят в состав группы (коммуникативно слабые)[159].
Последнее положение заслуживает особого внимания в связи с тем, что названные два вида предложений легко обнаруживаются в тексте нормативно-правовых актов. Рассмотрим пример.
Предложение «Общественное объединение вправе не регистрироваться в органах юстиции[160]» представляет собой самостоятельное веление законодателя, не нуждающееся ни в каких дополнениях и разъяснениях. Следующее за ним в той же части статьи предложение «В этом случае данное объединение не приобретает прав юридического лица» обладает признаками последовательности и, с лингвистической точки зрения, самостоятельным не является[161]. Очевидно, решая вопрос о том, следует ли признать это положение закона самостоятельным НПП, нужно руководствоваться двумя критериями:
– формальный критерий: как единица речи это предложение является зависимым, его смысл не может быть понят без учета предыдущего предложения;
– содержательный критерий: в этом предложении заключено новое правило поведения, новое веление, отличное от предыдущего (невозможность приобрести права юридического лица), а следовательно – новое НПП.
В соответствии с содержательным критерием мы признаем данное положение закона предписанием (есть веление – есть НПП). Формальный же критерий позволяет говорить об относительной зависимости этого НПП от предыдущего. С. С. Алексеев называет такие НПП конкретизирующими и признает их составной частью ассоциации НПП, т. е. своеобразной комбинации НПП, связанных друг с другом по смыслу[162].
Таким образом, положение о том, что каждое предложение текста закона содержит НПП, может быть принято лишь с оговоркой о различной степени самостоятельности этих НПП. Часть НПП содержит «полноценные» веления законодателя, но смысл их не может быть понят без учета содержания других НПП.
Дискуссионным является также вопрос о том, следует ли считать предложение минимальной единицей текста, способной нести в себе НПП. В. М. Сырых, например, считает, что по своему словесно-логическому построению НПП может представлять собой не только отдельное предложение, но и отдельную фразу внутри предложения[163]. П. В. Чесноков говорит о так называемом явлении присоединения, когда происходит своеобразное наслоение одного предложения на другое, одной логической фразы на другую[164]. Такое наблюдается, например, при наличии вставочных конструкций, выражающих дополнительные замечания по поводу тех или иных частей основного предложения[165]. Так, в ч. 1 ст. 158 УК РФ говорится: «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом…». В данном случае в виде вставочной конструкции (части предложения) сформулирована правовая дефиниция, которая выступает как самостоятельное НПП. Если это предложение разбить на два, смысл правовых велений не изменится: «Кража – это тайное хищение чужого имущества» и «Кража наказывается…».
Аналогичную роль (обособленных частей предложения, способных выражать отдельные НПП) выполняют, по нашему мнению, деепричастные обороты, широко используемые в декларативных НПП. Например, преамбула закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»[166] сформулирована в виде одного предложения, но в ней могут быть обнаружены пять логически самостоятельных частей: «(1) Признавая высокую ценность для каждого человека здоровья вообще и психического здоровья в особенности; (2) учитывая, что психическое расстройство может изменять отношение человека к жизни, самому себе и обществу, а также отношение общества к человеку; (3) отмечая, что отсутствие должного законодательного регулирования психиатрической помощи может быть одной из причин использования ее в немедицинских целях…; (4) принимая во внимание необходимость реализации в законодательстве РФ признанных международным сообществом и Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина, (5) Верховный Совет РФ принимает настоящий Закон».
Таким образом, утверждение о том, что в определенных случаях НПП может быть выражено частью предложения, следует признать верным.
Проведенный анализ признаков НПП позволяет сформулировать определение этого понятия. Нормативно-правовое предписание – это минимальная смысловая часть текста нормативно-правового акта, представляющая собой элементарное властное веление общего характера, обладающее формальной определенностью, цельностью и логической завершенностью.
79
Апт Л. Ф. Формы выражения и изложения правовых норм в нормативных актах. Автореф. дис… канд. юрид. наук; Горшенев В. М. Нетипичные нормативные предписания в праве; Евграфов П. Б. Соотношение структуры советского права и структуры советского законодательства. Автореф. дис… канд. юрид. наук; Пучков О. А. Воспроизведение нормативных предписаний как способ формирования советского законодательства. Автореф. дис. … канд. юрид. наук.
80
Мицкевич А. В. Акты высших органов Советского государства. С. 34.
81
Алексеев С. С. Структура советского права. С. 81.
82
Парфентьев А. Л. Нормативно-правовое предписание и его виды. Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 1980. С. 6.
83
Мирошниченко Т. Н. Нетипичное нормативное предписание: его природа и модификации. С. 3.
84
Блохин Ю. В. Критерии отграничения нормативно-правовых предписаний от ненормативных в советском законодательстве (на примере нетипичных предписаний). Автореф. дис… канд. юрид. наук. С. 11.
85
Заец А. П. Система советского законодательства. С. 9–10.
86
Мицкевич А. В. Акты высших органов Советского государства. С. 34.
87
Блохин Ю. В. Критерии отграничения нормативно-правовых предписаний от ненормативных в советском законодательстве. Дис… канд. юрид. наук. С. 15; Пиголкин А. С., Вопленко Н. Н. Основные виды правовых предписаний в советском законодательстве. С. 12 и др.
88
Блохин Ю. В. Указ. соч. С. 15–16.
89
Алексеев С. С. Структура советского права. М., 1975. С. 81.
90
Вопленко Н. Н. Нормы права. С. 4.
91
Сырых В. М. Теория государства и права. М., 1998. С. 111; см. также: Законодательная техника / Под ред. Ю. А. Тихомирова. М., 2000.
92
Общая теория права и государства / Под ред. В. В. Лазарева. – 3-е изд., перераб. и доп. М., 2001. С. 201.
93
Парфентьев А. Л. О понятии правового предписания // Проблемы совершенствования советского законодательства. Труды ВНИИСЗ, вып. 9. М., 1977. С. 172.
94
Заец А. П. Система советского законодательства. С. 20–23.
95
Евграфов П. Б. Соотношение структуры советского права и структуры советского законодательства. Дис… канд. юрид. наук. С. 153.
96
Теория государства и права / Отв. ред. А. И. Королев, Л. С. Явич. Л., 1982. С. 276.
97
Теория государства и права / Отв. ред. А. И. Королев, Л. С. Явич. Л., 1982. С. 277; см. также: Недбайло П. Е. Советские социалистические правовые нормы. Львов, 1959. С. 26; Общая теория государства и права / Под ред. В. В. Лазарева. М., 1994. С. 118 и др.
98
Лейст О. Э. Санкции и ответственность по советскому праву. М., 1981. С. 13.
99
Общая теория государства и права. С. 118; Недбайло П. Е. Указ. соч. С. 26.
100
Лившиц Р. З. Теория права. М., 1994. С. 103.
101
Лившиц Р. З. Теория права. М., 1994. С. 103.
102
Карташов В. Н. Теория правовой системы общества: В 2 т. Т. 1. Ярославль, 2005. С. 98.
103
Общая теория права и государства / Под ред. В. В. Лазарева. М., 2001. С. 201.
104
Заец А. П. Указ. соч. С. 20.
105
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 281.
106
Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. М., 1999. С. 100.
107
В рамках нормативного подхода, разумеется.
108
Часто в литературе в качестве синонима этого понятия используется термин «общий характер» (см.: Заец А. П. Указ. соч. С. 21–23; Мирошниченко Т. Н. Нетипичное нормативное предписание: его природа и модификации. С. 8 и др.).
109
Теоретические вопросы систематизации советского законодательства. М., 1962. С. 62–66. – В более широком плане нормативность рассматривается как универсальная закономерность социального развития, суть которой состоит в том, что социальная материя обладает внутренней потребностью в определенной упорядоченности в соответствии с теми или иными признаками. Отсюда, в литературе предпринята попытка представить в качестве форм правовой нормативности не только право, но и правосознание, правопорядок, правореализацию и другие правовые явления (см.: Липатов Э. Г. Нормативность правовых явлений. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1996).
110
Самощенко И. С. Понятие нормативного акта как предмета систематизации // Теоретические вопросы систематизации советского законодательства. С. 62–66.
111
Мицкевич А. В. Указ. соч. С. 43.
112
Подобные НПП получают признак нормативности лишь потому, что отношения, которые они регулируют в реальной действительности, сохраняют свою длительность, а следовательно, потребность постоянного подкрепления правового значения (см.: Заец А. П. Указ. соч. С. 21–23).
113
Апт Л. Ф., Кененов А. А. К вопросу об элементах и структуре советского права // Вестник МГУ, сер. «Право». 1973. № 3. С. 53; Мирошниченко Т. Н. Нетипичное нормативное предписание: его природа и модификации. С. 8; Розин Л. М. Вопросы теории актов советского государственного управления и практика органов внутренних дел. М., 1974. С. 72 и др.
114
Теоретические вопросы систематизации советского законодательства. С. 68–80.
115
Блохин Ю. В. Критерии отграничения нормативно-правовых предписаний от ненормативных в советском законодательстве. Дис… канд. юрид. наук. С. 21.
116
Блохин Ю. В. Критерии отграничения нормативно-правовых предписаний от ненормативных в советском законодательстве. Автореф. дис… канд. юрид. наук. С. 6.
117
Вопленко Н. Н. Сущность, принципы и функции права. Волгоград, 1998. С. 28.
118
Недбайло П. Е. Советские социалистические правовые нормы. С. 27.
119
Лейст О. Э. Указ. соч. С. 10–12.
120
Бабаев В. К. Формальная определенность и возможности формализации законодательства // Советское государство и право. 1978. № 4. С. 45; см. также: Чернобель Г. Т. Формализация норм права // Советское государство и право. 1979. № 4. С. 34.
121
Иногда определенность содержания рассматривается в литературе как один из аспектов признака формальной определенности: Алексеев С. С. Социальная ценность права в советском обществе. М., 1971. С. 89; Шабуров А. С. Формальная определенность права. Автореф. дис… канд. юрид. наук. Свердловск, 1973. С. 7.
122
Курс лекций по теории государства и права. Ч. 2. Саратов, 1993. С. 20.
123
Нормы советского права. Саратов, 1987. С. 72.
124
Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: норма и патология. М., 1982. С. 24.
125
Борботько В. Г. К вопросу о завершенности коммуникативных единиц языка // Семантика и структура предложения и текста. Сборник науч. тр. Грозный, 1981. С. 20.
126
С филологической точки зрения относительность логической завершенности языковой единицы означает, что перестановка высказывания внутри текста (контекстная свобода) возможна не всегда и обычно лишь в определенных пределах (см.: Борботько В. Г. К вопросу о завершенности коммуникативных единиц языка. С. 20).
127
Парфентьев А. Л. Нормативно-правовое предписание и его виды. Автореф. дис… канд. юрид. наук. С. 7.
128
Евграфов П. Б. Соотношение структуры советского права и структуры советского законодательства. Автореф. дис… канд. юрид. наук. С. 15.
129
Пиголкин А. С., Вопленко Н. Н. Указ. соч. С. 12. – Это определяется тем, что «правовое регулирование осуществляется преимущественно на информационном уровне, т. е. путем передачи правовой информации языковыми средствами…» (Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве: Теоретико-информационный аспект. Саратов, 1994. С. 95).
130
Руднев А. Г. Проблема формы и содержания в языке. Л., 1959. С. 7.
131
Цит. по: Потебня А. А. Полное собрание трудов: Мысль и язык. М., 1999. С. 29. – Как отмечает автор, взгляд Гумбольта вполне подтверждается позднейшими психологическими исследованиями.
132
Алексеев С. С. Структура советского права. С. 84; Антропов В. Г. Правовая логика: структура правовой нормы. Волгоград, 1999. С. 5–6; Блохин Ю. В. Критерии отграничения нормативно-правовых предписаний от ненормативных в советском законодательстве. Дис… канд. юрид. наук. С. 19; Парфентьев А. Л. Нормативно-правовое предписание и его виды. Автореф. С. 7; Сырых В. М. Теория государства и права. С. 111; Черданцев А. Ф. Толкование советского права. М., 1979. С. 10; Он же. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике. Екатеринбург, 1993. С. 38.
133
Блохин Ю. В. Указ. соч. С. 19.
134
Парфентьев А. Л. Указ. соч. С. 11.
135
Алексеев С. С. Общая теория права. Т. II. М., 1981. С. 55.
136
Идея привлечения данных лингвистики для исследования текста права не является новой. Во многих западных странах и, особенно, в США, начиная с 70-х годов, активно развивается целое научное направление «право и язык» (об этом см.: Лезов С. В. Юридические понятия и язык права в современных зарубежных исследованиях: Науч. – аналит. обзор. М., 1986). Среди ученых (филологов и юристов), развивающих это направление, У. О’Барр, Г. Харт, П. Б. Максвелл, Л. Витгенштейн, Е. Калиновский, Ф. Вейсман, Д. Меллинков, М. Эдельман, У. Проберт, У. Черрон, Э. Макай, Б. Данет и др. К сожалению, анализ работ перечисленных авторов заставил бы значительно выйти за рамки предмета нашего исследования, поэтому нам представляется правильным ограничиться упоминанием о том, что названное направление междисциплинарных исследований является достаточно популярным и перспективным в современной мировой науке.
137
Белошапкова В. А. Современный русский язык. Синтаксис. М., 1977. С. 78.
138
В некоторых концепциях, например, присутствовал так называемый формально-грамматический подход, когда основной синтаксической единицей признавалось словосочетание (см.: Васильев Л. М. Теоретические проблемы лингвистики: внутреннее устройство языка как знаковой системы. Уфа, 1994. С. 96).
139
Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М.; Л., 1947.
140
Белошапкова В. А. Современный русский язык. С. 78.
141
Бюллер К. Теория языка. Репрезентативная функция языка / Пер. с нем. М., 1993. С. 330.
142
Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. С. 138–140.
143
Юрченко В. С. Предложение и слово. Проблема их соотношения в лингвофилософском плане. Саратов, 1997.
144
Бюллер К. Указ. соч. С. 328.
145
Бюллер К. Указ. соч. С. 328.
146
Цит. по: Юрченко В. С. Предложение и слово. С. 3.
147
Белошапкова В. А. Современный русский язык. С. 99.
148
Белошапкова В. А. Современный русский язык. С. 78–83.
149
Определение семантической структуры предложения как смысловой в крайней степени условно. В литературе часто подчеркивается, что смысл высказывания и его семантическую структуру нельзя отождествлять друг и другом, так как, в действительности, их соотношение значительно сложнее (см.: Васильев Л. М. Теоретические проблемы лингвистики: внутреннее устройство языка как знаковой системы. Уфа, 1994. С. 102). В. В. Богданов, например, выделяет 5 типов концепций, различным образом трактующих семантику предложения (см.: Богданов В. В. Содержание предложения в различных лингвистических концепциях // Принципы и методы исследования единиц языка. Межвуз. сб. науч. тр. Воронеж, 1985. С. 3–10). Столь подробное исследование данной проблемы в настоящей работе вряд ли уместно, поэтому мы ограничимся самым общим представлением о семантической структуре предложения.
150
Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл. Логико-семантические проблемы. М., 1976. С. 5. – Как подчеркивает Б. Ю. Норман, последние десятилетия в лингвистике прошли под знаком «поворота» к семантике, пристального интереса к содержательной стороне языка (см.: Норман Б. Ю. Грамматика говорящего. СПб., 1994. С. 197).
151
Чесноков П. В. Логическая фраза и предложение. Ростов, 1961. С. 25.
152
Чесноков П. В. Логическая фраза и предложение. Ростов, 1961. С. 98. – Это обусловлено непосредственной связью языка и мышления. Данная связь подчеркивается во многих определениях предложения, например «группа слов, грамматически оформленная как единица речи и выражающая относительно законченную мысль» (Руднев А. Г. Проблема формы и содержания в языке. Л., 1959. С. 7).
153
Чесноков П. В. Указ. соч. С. 98.
154
Чесноков П. В. Указ. соч. С. 40.
155
Звегинцев В. А. Предложение и его отношение к языку и речи. М., 2001. С. 293–294; Солганик Г. Я. Синтаксическая стилистика (Сложное синтаксическое целое). М., 1991. С. 75; Общение. Текст. Высказывание. М., 1989. С. 57–60; Парчиева П. Р. К вопросу о делимитации нижней границы единицы текста – сложного синтаксического целого // Текстообразующие свойства слова и предложения. Межвуз. сб. научн. тр. Грозный, 1982. С 112.
156
Вейхман Г. А. Высшие синтаксические уровни // Семантика и структура предложения и текста. Сборник научн. тр. Грозный, 1981. С. 24.
157
Вейхман Г. А. Высшие синтаксические уровни // Семантика и структура предложения и текста. Сборник научн. тр. Грозный, 1981. С. 29.
158
Звегинцев В. А. Указ. соч. С. 294; Солганик Г. Я. Синтаксическая стилистика. М., 1973. С. 5.
159
Зарубина Н. Д. Текст: лингвистический и методический аспекты. М., 1981. С. 17, 28–66.
160
Ст. 21 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» // СЗ РФ от 22 мая 1995 г. № 21, ст. 1930 (в ред. от 2 февраля 2006 г.).
161
Зарубина Н. Д. Указ. соч. С. 36.
162
Алексеев С. С. Структура советского права. С. 111. – Следует уточнить, что автор использует понятие «ассоциации правовых норм», однако представляется, что, исходя из принятой нами терминологии, правильнее именовать их ассоциациями НПП. Подробнее это понятие будет рассмотрено нами в гл. III.
163
Сырых В. М. Теория государства и права. С. 111.
164
Чесноков П. В. Логическая фраза и предложение. С. 30.
165
Чесноков П. В. Логическая фраза и предложение. С. 31.
166
Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185–I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ от 20 августа 1992 г., № 33, ст. 1913 (в ред. от 22 августа 2004 г.).