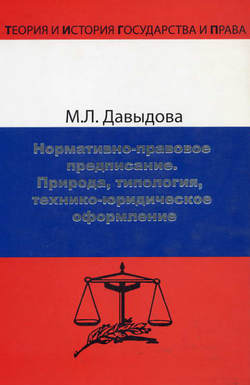Читать книгу Нормативно-правовое предписание. Природа, типология, технико-юридическое оформление - Марина Давыдова - Страница 6
Глава I. Понятие и технико-юридическая природа нормативно-правового предписания
§ 3. Типология правовых предписаний: содержательные и технико-юридические основания
ОглавлениеНами было показано, что, несмотря на значительный разброс мнений по вопросам о понятии и классификации НПП, в большинстве цитируемых работ высказываются определенные общие идеи. Одно из таких наиболее распространенных положений заключается в том, что понятием «НПП» охватывается весь комплекс велений законодателя, включающий в себя далеко не только ПН[167].
Следует оговориться, что этого мнения придерживаются отнюдь не все ученые.
Так, С. С. Алексеев, считая НПП элементом системы права, фактически приравнивает друг к другу по объему НПП и ПН[168] и, следовательно, все положения нормативного акта рассматривает в качестве источника ПН. С этой точки зрения, к ПН нужно относить и такие правовые явления, как декларации, определения, принципы права. А поскольку они играют особую роль в правовом регулировании[169], автор выделяет им особое место в классификации, относя их к числу специализированных ПН общего характера (куда включает: общие закрепительные НПП, декларативные (в том числе и принципы) и дефинитивные)[170].
В. К. Бабаев, как упоминалось выше, не является сторонником столь широкого толкования понятия ПН, определяя право как «систему исходных законодательных предписаний и развивающих их правовых норм»[171]. Однако в некоторых своих работах он также классифицирует эти правовые положения в качестве ПН и делит последние на исходные (нормы-начала, определительно-установочные, нормы-принципы, нормы-дефиниции) и нормы – правила поведения[172].
Г. А. Борисов, в отличие от С. С. Алексеева и В. К. Бабаева, считает НПП элементом не права, а законодательства, употребляя даже термин «предписания законодательства»[173]. Однако при этом понятие ПН в его трактовке также корреспондирует всем велениям законодателя, содержащимся в нормативном акте. ПН представляется ему, таким образом, универсальной категорией, «воплощающей все богатство интеллектуально-волевого содержания законодательной материи, задействующей не только предписания – правила поведения, но и нормативные справки, программные положения, предписания-принципы, нормативные обобщения, статутные предписания»[174].
Аргументы участников дискуссии о понятии ПН достаточно подробно изложены в литерату ре[175], и каждая позиция, вероятно, имеет свои основания. Нам кажутся более убедительными доводы тех ученых, мнение которых в свое время выразил известный русский юрист Е. В. Васьковский: «Под юридической нормой в собственном смысле слова следует разуметь не всякую мысль, не всякую фразу законодателя, а только такое его веление, которое заключает в себе правило поведения, обращенное к гражданам или органам власти»[176].
Одним из достоинств категории НПП является как раз то, что ее использование позволяет не растягивать до бесконечности рамки понятия ПН. «Нормативные предписания – это основной, ведущий элемент содержания… законодательства. …В нормативных предписаниях объективируется содержание самого права – государственная воля. И если ранее вопрос стоял о выражении в данных предписаниях содержания с элементами… структур правовых норм, то сейчас – о государственной воле, структурность которой в эти схемы уже не укладывается»[177].
ПН выступает, таким образом, как один из видов НПП. Учитывая это, классификация НПП может быть осуществлена в двух направлениях:
1) в направлении «инвентаризации» различных НПП, выражающих ПН;
2) в направлении исследования и дифференциации того массива НПП, которые не входят в понятие ПН.
Первому направлению внимание будет уделено в гл. III, в данном же параграфе следует обратиться к решению второй из поставленных задач.
Целью научного исследования данной проблемы выступает выбор наиболее удачного критерия классификации и выделение на его основе тех видов НПП, которые существуют в действующем законодательстве наряду с НПП, выражающими ПН.
Научным основанием такой классификации должно служить теоретическое представление о понятии и значении категории НПП. Последнее, повторимся, рассматривается нами как качественно своеобразное явление, находящееся как бы на стыке системы права и системы законодательства. Определяющая черта НПП – неразрывная связь содержания и формы.
Именно из этого нужно исходить при классификации НПП, т. е. критерий деления должен охватывать, в самом общем виде, совокупность содержательных и формальных отличий каждого вида НПП от основной их группы – ПН.
Следует заметить, что, классифицируя ПН по содержанию, мы, как правило, сталкиваемся и с определенными особенностями формы, а формальные особенности, в свою очередь, свидетельствуют о содержательных различиях. Это вполне закономерно с точки зрения общефилософских положений о единстве формы и содержания. Однако это правило действует не всегда. Например, закрепление правовых принципов может осуществляться путем простого перечисления их в одной статье закона или путем изложения каждого принципа в отдельной статье. Но эти отличия лишь формальные, на содержание самого принципа они никакого влияния не оказывают. Значит, здесь имеет место формальный критерий классификации. С другой стороны, если взять деление ПН на общие и специальные, то здесь может идти речь только о классификации в зависимости от содержания, потому что по форме изложения эти ПН практически ничем не отличаются друг от друга[178].
Таким образом, содержательные особенности не всегда влияют на форму, а особенности формы не всегда свидетельствуют о специфике содержания. При этом, классифицируя НПП, мы должны следить, чтобы содержательный и формальный критерии совпадали.
Очевидно, имеет смысл рассмотреть существующие в науке классификации НПП с данной позиции, т. е. выяснить, включают ли предлагаемые критерии деления содержательный и формальный аспекты и могут ли выделяемые на основе этих критериев виды быть взяты за основу общетеоретической классификации НПП.
Один из традиционных подходов к классификации НПП состоит в делении их на типичные и нетипичные. Основоположником этого подхода является А. В. Мицкевич[179], несколько иначе интерпретировал его В. М. Горшенев[180], концепцию которого развила в написанной под его научным руководством диссертации Т. Н. Мирошниченко[181]. Позже анализ различных видов НПП с позиций их типичности проводил Ю. В. Блохин[182].
А. В. Мицкевич в качестве критерия типичности НПП рассматривает наличие у них признаков нормативности. Он указывает, что в нормативных актах «часто встречаются предписания, из текста которых нельзя бесспорно установить, применимы ли они к виду общественных отношений или только к отдельному отношению… Нормативность нетипичных предписаний не выражена в их словесной формулировке, а вытекает из того, что они связаны с действием правовых норм, сформулированных в других предписаниях, должны учитываться при применении этих норм»[183]. Примерами подобных НПП А. В. Мицкевич считает веления законодателя, предусматривающие образование единичных государственных органов, утверждение их структуры, изменение государственной границы и т. д. Таким образом, типичными НПП, по мнению автора, являются такие, которым присущи все признаки нормативности: неконкретность адресата, возможность неоднократного применения, сохранение действия, независимо от исполнения[184].
Этими признаками обладают ПН, которые в этом смысле и следует считать типичными НПП. Однако ученый настаивает на недопустимости отождествления типичных НПП с ПН в целом. Элементы логической структуры ПН, как правило, не содержатся целиком в одном НПП. Поэтому широкий круг НПП носит нормативный характер, не совпадая с содержанием правил поведения, с диспозицией ПН. НПП могут охватывать лишь определенные условия или последствия поведения, предусмотренного иными НПП, иногда даже содержащимися в других актах. Следовательно, говоря, что типичным НПП является ПН, «мы имеем в виду часть нормы, но такую, из которой ясно вытекает существо нормативности – возможность применения… к виду общественных отношений»[185].
Столь подробное изложение научной позиции А. В. Мицкевича объясняется нашим стремлением продемонстрировать специфику второго подхода к проблеме, разработанного в трудах В. М. Горшенева и Т. Н. Мирошниченко. Заимствовав во многом аргументацию А. В. Мицкевича, эти авторы пришли к принципиально иным выводам.
Водоразделом между типичными и нетипичными НПП они также считают понятие ПН: «Всякая норма права есть предписание, но не каждое предписание является нормой права»[186]. Нетипичными НПП здесь признаются такие, которые «лишены традиционной логичности нормы права, не содержат или почти не содержат некоторых ее естественных элементов, в силу чего выглядят композиционно несовершенными, структурно незавершенными»[187]. Критерием отграничения нетипичных НПП признается степень их нормативности и выраженности черт, характерных для указателя правила поведения[188]. Однако этот критерий лишь внешне напоминает аналогичный критерий, предложенный А. В. Мицкевичем. Основное отличие рассматриваемых подходов состоит в том, что А. В. Мицкевич исследует НПП как элемент системы законодательства, а В. М. Горшенев переносит его в систему права. В результате ПН, как разновидность НПП, рассматривается не в том виде, в котором она в действительности закрепляется в статьях нормативного акта, а в форме известной теоретической конструкции (гипотеза, диспозиция, санкция). Поэтому фактическим критерием типичности НПП становится наличие у него трехчленной структуры ПН[189]. Классификация нетипичных НПП выглядит следующим образом:
1) НПП, которые чрезмерно конкретизированы, в результате чего в значительной степени теряют свой общий характер: плановые задания; рекомендации; сроки; преюдиции (Т. Н. Мирошниченко вместо сроков и преюдиций вносит в данную группу поощрения[190]).
2) НПП, содержащие некоторое допущение к правилу поведения: презумпции; фикции (а также преюдиции – в варианте Т. Н. Мирошниченко).
3) НПП, которые не содержат правила поведения вообще: дефиниции; юридические конструкции.
Данная классификация вызывает два основных возражения:
1) Вряд ли можно считать плодотворным подход к проблеме соотношения ПН и «типичного НПП». Помести в понятие НПП в систему права и отождествив с трехчленной структурой ПН, автор сводит на нет все достоинства представления о НПП как единстве формы и содержания, живой, реально существующей частице правовой материи, непосредственно выраженной в законодательстве. Ведь доказать, что логическая структура ПН находит свое отражение в каждой статье нормативного акта, не представляется возможным[191], а признав наличие этой структуры у НПП, мы тем самым отрываем содержание от формы, от особенностей текстуального выражения НПП. Думается, «типичного» НПП в том виде, в котором его рассматривает В. М. Горшенев, вообще не существует, если исходить из представления о НПП как начальном элементе системы законодательства. Изучая НПП как элементарное, цельное правовое веление, выраженное в нормативном тексте, практически невозможно «растянуть» его до размеров сложной теоретической конструкции ПН. Поэтому любое НПП (в нашем понимании этой категории), взятое в отдельности, вырванное из контекста, окажется «композиционно незавершенным[192]».
2) Вызывает сомнение и подход к понятию «типичности» НПП. В научной литературе подчеркивается, что «появление нетипичного связано в основном с процессом совершенствования данного типа явлений, возникновением в нем новых, ранее не встречавшихся (или редко встречавшихся) свойств, элементов. Если типичное – это то, что получило массовое распространение, то нетипичное – это то, что еще не стало массовым, многократно повторяющимся и находится в стадии становления»[193]. Правовые дефиниции, презумпции, фикции – достаточно распространенные правовые явления, присущие любой развитой правовой системе[194]. Как подчеркивает К. К. Панько, многие из них образуют целые институты в различных отраслях права (институт судимости, истечения сроков давности и т. д.), поэтому не могут носить вспомогательный (субсидиарный) характер[195]. Поэтому следует, вероятно, согласиться с С. С. Алексеевым, П. Б. Евграфовым и другими учеными в том, что выделенные В. М. Горшеневым НПП вряд ли стоит рассматривать в качестве «нетипичных»[196].
С точки зрения массовости, распространенности освещает проблему типичности Ю. В. Блохин. Он предлагает в этой связи считать нетипичными следующие группы НПП:
1) НПП, которые отличаются от типичных по форме своего логико-грамматического выражения (НПП, изложенные в виде формул, рисунков, схем, типовых расчетов);
2) НПП, имеющие нетипичные компоненты содержания (рекомендации, нормы-примеры);
3) НПП, содержащие признаки нетипичного как в форме своего выражения, так и в компонентах содержания (технико-юридические НПП, политические и моральные нормы, заключенные в правовую об олоч к у)[197].
Перечисленные виды НПП (за исключением, может быть, третьей группы) действительно являются редкими, малораспространенными, нетипичными для нашего законодательства.
Представляется, однако, что классификация ни А. В. Мицкевича, ни Ю. В. Блохина не могут быть взяты за основу общетеоретической типологии НПП, несмотря на то, что критерий отграничения ПН от нетипичных НПП включает совокупность и формальных, и содержательных признаков.
Следует признать, что сам подход к классификации НПП с позиции их типичности или нетипичности представляет в связи с вышесказанным интерес, по большей части, в качестве исследования частного вопроса теории НПП. Общетеоретическая классификация НПП должна, думается, строиться на выделении типичных, наиболее распространенных их видов.
По поводу разновидностей НПП, выделенных В. М. Горшеневым (отказавшись по упомянутым причинам от термина «нетипичные НПП»), можно заметить, что подобные виды НПП, существующих в законодательстве наряду с ПН, называют и другие ученые.
Так, В. Г. Тяжкий применительно к системе трудового права, к роме ПН, выделяет группу НПП, выполняющих системосохраняющие функции:
– общие положения трудового законодательства (принципы, задачи, цели правового регулирования трудовых отношений),
– относительно-определенные положения (типовые предписания),
– отдельные конкретные веления (нормативные разъяснения, коллизионные НПП, дефиниции, презумпции, юридические фикции и т. д.),
– НПП с особой формой обращения к субъектам (рекомендации), а также некоторые другие[198].
А. П. Заец в подобный системосохраняющий механизм законодательства включает презумпции, фикции, преюдиции, НПП, разрешающие применение аналогии, коллизионные НПП[199].
В. Н. Карташов в качестве нестандартных НПП, существующих наряду с ПН, выделяет правовые принципы, цели-задачи, нормативные справки, дефиниции, нормативно-правовые рисунки, нормативные формулы и сроки[200].
Предлагаемые виды НПП, вероятно, следует оценить с интересующей нас позиции, а именно:
1) достаточно ли имеется оснований, чтобы считать их самостоятельным видом НПП наряду с ПН;
2) отличаются ли они от других НПП как по форме, так и по содержанию;
3) достаточно ли они распространены, типичны для всего законодательства.
В качестве условного критерия подобной типичности можно предложить, например, такую распространенность соответствующего вида НПП, при которой не составляет труда обнаружить его практически в каждом нормативно-правовом акте (или в их большинстве).
Начнем с презумпций и фикций. В юридической литературе их принято рассматривать как специфические приемы юридической техники[201], как НПП, в которых содержится известная доля допущения, относительность состояния, причем их условность призвана обеспечить стабильность ситуации, когда характер фактических обстоятельств, подлежащих правовой оценке, чрезвычайно неопределенен[202].
Классическое определение презумпции принадлежит В. К. Бабаеву. Он понимает под презумпцией «закрепленное в нормах права предположение о наличии или отсутствии юридических фактов, основанное на связи между ними и фактами наличными и подтвержденное предшествующим опытом»[203]. Существенными чертами презумпции признают то, что она является (а) вероятным предположением, (б) основанным на связи явлений в форме статистической закономерности, которое (в) выражено в законе и (г) связано с юридическими последствиями[204].
Под фикцией принято понимать прием юридической техники, состоящий в объявлении несуществующего положения (или отношения) существующим[205]. Основным специфическим признаком фикций является то, что для своего объекта регулирования они вычленяют обстоятельства, которые находятся в состоянии невосполнимой неизвестности, и придают им значение юридических фактов. В отличие от презумпций они имеют намеренно деформирующий характер, который заключается: а) в искусственном уподоблении или приравнивании друг к другу таких понятий и обстоятельств, которые в действительности различны или даже противоположны; б) в признании реальными несуществующих обстоятельств и отрицании существующих; в) в признании существующими обстоятельств и ситуаций до того, как они стали существовать на самом деле[206].
Приведенные отличительные свойства правовых презумпций и фикций дают многим авторам основание считать их самостоятельными видами НПП. Хотелось бы, однако, не согласиться с таким мнением.
Во-первых, специфика данных правовых явлений, их отличия от ПН часто преувеличиваются в литературе. Так, неверным представляется утверждение Т. Н. Мирошниченко, будто, выражая наиболее вероятную ситуацию, правовая презумпция устанавливает, что обычным, типичным, наиболее частым порядком является такой-то и такой-то[207]. Соответствующее веление законодателя основывается на знании определенных закономерностей, на определенном предположении, но устанавливает при этом совершенно четкое правило, «императивный момент»[208] в котором выражен так же ярко, как и в любой ПН[209]. Несмотря на все отличия, они остаются правилами, особыми, построенными на предположении, но все же правилами поведения[210]. Им свойственны и признаки нормативности, и все характерные черты ПН, перечисленные В. М. Горшеневым[211] (к роме, разве что, трехчленной структуры, о которой говорилось выше). Отличительной чертой является, пожалуй, только функция, выполняемая данными НПП и заключающаяся в обеспечении стабильности правового регулирования.
Во-вторых, по форме выражения данные НПП не имеют существенных отличий от ПН. Нельзя согласиться поэтому с предположением об отсутствии у некоторых из них гипотезы[212]. Возьмем, к примеру, правовую фикцию, изложенную в п. 3 ст. 45 ГК РФ: «Днем смерти гражданина, объявленного умершим (гипотеза), считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим (диспозиция)». Внешне она не отличается от обычных НПП, выражающих ПН или части ПН, т. е. содержит правило поведения, адресованное определенным субъектам. Кроме того, тот факт, что в литературе достаточно часто обсуждаются проблемы, следует ли вообще считать то или иное НПП презумпцией (например, презумпцию невиновности[213]), либо признакам какого явления – неопровержимой презумпции или фикции – соответствует в большей мере определенное веление[214], свидетельствует об отсутствии четко выраженной формальной специфики данных разновидностей НПП.
Имея же только функциональные отличия, презумпции и фикции могут претендовать на признание их отдельной разновидностью ПН[215], особыми элементами правовой системы в целом[216], но не самостоятельными видами НПП (в нашем понимании этой категории). Принципиально важно отличать НПП, выражающие ПН, специализирующиеся на выполнении определенной функции в процессе правового регулирования, от НПП, специфичных по содержанию и по форме настолько, что имеет смысл выделять их в самостоятельный вид.
Думается, не меняет ситуации подход к рассматриваемым явлениям как приемам юридической техники. Они выступают таковыми не в смысле способа формулирования государственной воли, а в смысле способа регулирования общественных отношений в определенных жизненных ситуациях. НПП же может рассматриваться в качестве технико-юридической категории именно в смысле техники формулирования отдельного веления законодателя, умения выразить в предложении нормативного текста соответствующее правовое требование. Как категории юридической техники презумпции (фикции) и НПП представл яют собой, таким обра зом, ра зноплоскостные явления: первые отражают содержательный аспект юридической техники, а вторые – формальный.
Поэтому не совсем точным представляется утверждение В. К. Бабаева о том, что существование правовых фикций и неопровержимых презумпций вызвано необходимостью придать законодательству юридическую (формальную) определенность[217]. Определенность данные правовые явления придают не законодательству, а самому праву, указывая способы регулирования тех или иных общественных отношений. Прав в этой связи А. С. Шабуров, рассматривающий презумпции, фикции и преюдиции в качестве приема достижения формальной определенности права, правового регулирования[218].
Приблизительно те же аргументы можно привести по поводу сроков и преюдиций. Они имеют собственное регулятивное значение и если не содержат правила поведения, то непосредственно дополняют правило, содержащееся в другом НПП. Например, ст.82 УПК РФ содержит НПП, устанавливающее сроки хранения доказательств: «Вещественные доказательства должны храниться при уголовном деле до вступления приговора в законную силу либо до истечения срока обжалования…». Это НПП может быть рассмотрено как самостоятельное правило, адресованное лицам, отвечающим за сохранность вещественных доказательств, либо как гипотеза другой ПН, содержащая описание необходимого юридического факта. В любом случае, оснований для того, чтобы вырвать это НПП из системных связей, вывести его в отдельную группу, по нашему мнению, нет[219].
Именно в результате взаимодействия таких разнородных НПП создается сложная система, в которой каждое НПП «выполняет часть единой задачи, направлено на достижение единой цели, запрограммированной законодателем для всей данной группы; каждое из НПП является по своему регулятивному значению дополнением других НПП данной группы и зачастую вообще не может действовать и применяться в отрыве от них[220]».
Вызывает сомнение и попытка Т. Н. Мирошниченко обосновать специфику преюдиции как самостоятельного вида НПП, ссылаясь на отсутствие у нее санкции. Во-первых, автор не приводит никаких аргументов, примеров, поэтому ее утверждения об отсутствии у презумпции гипотезы, а у преюдиции – санкции выглядят произвольными и бездоказательными. Во-вторых, подобные особенности могут характеризовать не только названные, но и многие другие виды НПП, поскольку в результате специализации ПН выражающие их НПП часто выступают в элементарном, «усеченном» виде и внешне в ряде случаев, казалось бы, лишены полного набора признаков ПН. В связи с этим действие одной ПН неизбежно связано с действием ряда других ПН, и потому лишь в своей совокупности, в системе ПН регулируют общественные отношения[221].
В целом следует заметить, что разнообразие жизненных ситуаций, подлежащих правовому регулированию, обусловливает и огромное многообразие регулирующих их ПН. Поэтому вряд ли есть необходимость излишне ограничивать это понятие, вводить его в слишком узкие рамки. Если признать, что не являются ПН фикции, презумпции, преюдиции, сроки, то почему бы не добавить к этой группе и аксиомы[222] или другие более или менее изученные в качестве особой самостоятельной разновидности правовые веления? Возникает впечатление, что от ПН как бы отделяются, «отпочковываются» те явления, специфика функционального назначения которых более или менее исследована, выявлена в науке. Все остальное, охватываемое абстрактной формулой «правило поведения», продолжает называться «ПН». Подобный подход к понятию ПН представляется неправильным.
Думается, в принципе неверно относить к разряду НПП юридические конструкции. По определению А. Ф. Черданцева, юридическая конструкция – это идеальная модель, отражающая сложное структурное строение урегулированных правом общественных отношений, юридических фактов или их элементов[223]. Сам В. М. Горшенев подчеркивает, что их юридическая природа устанавливается не из прямых указаний нормативно-правовых актов, а из общих положений всего права и юридической практики[224]. НПП, наоборот, содержатся непосредственно в тексте закона, являясь его элементарными частицами. Именно поэтому С. С. Алексеев включает юридические конструкции в идеальную структуру права наряду с «логическими ПН»[225].
Приведем пример. Типичным образцом юридической конструкции является состав преступления, т. е. законодательная модель преступления, содержащаяся в УК РФ. Как справедливо подчеркивается в литературе, наиболее полно признаки состава представлены в диспозиции[226] инкриминируемой статьи Особенной части УК. Однако часть признаков указывается в статьях Общей части[227]. В статьях с бланкетными и отсылочными диспозициями предполагается необходимость установления конкретных свойств посягательств на основании положений других отраслей права или статей УК[228]. А. Н. Трайнин говорит о ситуациях, когда диспозиция бывает шире или у́же по объему, чем состав преступления, когда отдельные элементы состава переносятся в санкцию[229]. Очевидно, что получить достаточное представление обо всех признаках такой юридической конструкции, как состав преступления, основываясь на минимальной единице текста УК, каковой является НПП, невозможно. Поэтому и отождествление двух этих понятий недопустимо[230].
Еще одним видом НПП, названным В. М. Горшеневым, являются плановые задания. Возможно, в настоящее время в связи с отказом от плановой экономики нормативность последних может быть поставлена под сомнение. Если обратиться к признакам нормативности, указанным, например, А. В. Мицкевичем (неконкретность адресата; возможность неоднократного применения НПП; сохранение действия НПП независимо от исполнения[231]), то плановые задания не должны считаться нормативными, поскольку адресуются конкретным субъектам и прекращают свое действие после исполнения. В том же случае, когда план носит общий и абстрактный характер[232], его следует считать скорее не планом, а нормой временного действия.
Что касается рекомендаций, то тот факт, что само существование соответствующего вида ПН признается далеко не всеми учеными[233], наводит на мысль о нетипичном характере данного правового явления[234]. Поэтому представляется правильным не рассматривать рекомендательные НПП в качестве одного из основных видов НПП российского законодательства.
Итак, из НПП, выделяемых учеными в качестве особых видов,
– часть в силу формальных или содержательных причин должна быть отнесена к разряду ПН (НПП со специфическими функциями: презумпции, фикции, преюдиции, сроки),
– часть вообще не может считаться НПП (юридические конструкции),
– некоторые не являются достаточно распространенными, чтобы признаваться самостоятельным, типичным видом НПП (рекомендации, плановые НПП, нормативные рисунки, формулы и т. п.).
Наибольшие сложности вызывает решение вопроса о целесообразности признания самостоятельным видом НПП велений, которые многими авторами включаются в так называемый «системосохраняющий механизм» права[235] или законодательства[236]. К ним относятся: оперативные (С. С. Алексеев), коллизионные (С. С. Алексеев, Н. А. Власенко; В. Г. Тяжкий, А. П. Заец), НПП, разрешающие применение аналогии (Н. А. Власенко; А. П. Заец), и некоторые другие. Вероятно, можно включить в круг рассматриваемых НПП и правотворческие[237], и технико-юридические[238], и бланкетные[239]. Общим для всех этих видов НПП является их назначение – регулирование процесса создания, действия, изменения и отмены ПН. Предметом регулирования здесь выступают не реальные общественные отношения, а другие ПН, порядок их функционирования.
С другой стороны, эти НПП содержат конкретные правила (касающиеся создания или отмены ПН и т. д.), которые реализуются непосредственно соответствующим субъектом. Это сближает их с ПН. Сложно говорить и об определенной специфической форме, отличающей данную группу НПП от других. Все это дает основания для признания их (как и правовых презумпций и преюдиций) особой разновидностью ПН – ПН, выполняющими специфические функции.
Суммируя все сказанное по вопросу о делении НПП, хотелось бы сделать одно общее замечание, касающееся всех рассмотренных классификаций: в них отсутствует единый четкий критерий отграничения одного вида НПП от другого. Повторимся, что в основе такого критерия должны лежать отличия НПП как по форме, так и по содержанию. Из этого следует, что какого-то одного признака в данном случае недостаточно. Необходимо вывести комплексный критерий, объединяющий несколько признаков, оснований деления. Такой комплексный критерий позволит провести не классификацию, а типологию НПП, исследовать их на более высоком научном уровне. Результатом подобного исследования может стать система идеальных типов НПП, т. е. неких синтетических образов, создающих концептуальную картину изучаемого явления, учитывающую все взаимосвязи между элементами, признаками, свойствами, образующими понятие[240].
По нашему мнению, параметрам такой типологии соответствует предложенное Н. Н. Вопленко и А. С. Пиголкиным деление НПП на правовые декларации, дефиниции, принципы и ПН[241].
Во-первых, данные виды НПП называются практически всеми учеными, чьи классификации рассматривались выше[242], т. е. специфика их может считаться общепризнанной в научной литературе.
Во-вторых, как нам кажется, данная типология позволяет:
1) показать разнообразие правовых велений, содержащихся в действующем законодательстве;
2) излишне не детализировать, не дробить блок основных НПП, играющих решающую роль в правовом регулировании;
3) не ограничивать очень узкими рамками понятие ПН, демонстрируя богатство и разнообразие их разновидностей;
4) исследовать наиболее типичные НПП, распространенные во всех отраслях законодательства, практически в каждом нормативном акте.
В-третьих, они отличаются друг от друга сразу по нескольким критериям. Подробнее эти отличия будут рассмотрены ниже, однако простое их перечисление позволяет, очевидно, говорить о наличии искомого комплексного критерия типологии. В литературе подчеркивается, что в рамках системного подхода набор признаков и свойств, взятых для конструирования идеального типа, является не их простой совокупностью, но органическим целым, системой, где каждый признак выступает своеобразным элементом системы признаков, а их устойчивая связь образует структуру идеального типа[243]. Представляется возможным в этой связи для каждого рассматриваемого типа НПП выявить комплекс содержательных, формальных и функциональных признаков, обусловливающих его специфику:
1) содержательные признаки:
– содержание веления;
– степень общности;
– внутренняя структура;
2) формальные признаки:
– форма изложения;
– положение и роль в системе НПП в рамках нормативного акта;
3) функциональные признаки:
– роль в правовом регулировании;
– форма реализации.
Целью типологии является создание системного синтетического образа изучаемого объекта государственно-правовой действительности в форме системы идеальных типов[244]. Исследование соответствующих типов НПП позволит, таким образом, представить как отдельный нормативно-правовой акт, так и все законодательство в виде целостной системы идеальных типов НПП:
– правовых деклараций;
– правовых дефиниций;
– правовых принципов;
– правовых норм.
Данная система подлежит, в свою очередь, внутренней дифференциации в связи с тем, что на фоне остальных типов и содержательно, и функционально выделяются правовые нормы. Они, безусловно, составляют основную часть всей системы законодательства и каждого отдельного нормативного акта. Правовые декларации, дефиниции и принципы по сравнению с ПН характеризуются меньшей распространенностью, а следовательно, и меньшей значимостью в процессе правового регулирования. Представляется, однако, что не следует называть их нетипичными[245] или нестандартными[246] НПП.
Как уже отмечалось, они встречаются в каждом или в большинстве нормативно-правовых актов и являются поэтому вполне типичными и стандартными (в отличие, например, от НПП-таблиц, рисунков, формул и т. п.). Более справедливо, вероятно, говорить не о типичности таких НПП, а об их особом вспомогательном[247] назначении. Таким образом, система идеальных типов НПП может быть представлена следующим образом:
1) нормативно-вспомогательная часть:
– нормативно-правовые декларации;
– нормативно-правовые дефиниции;
– нормативно-правовые принципы;
2) основная часть:
– НПП, выражающие правовые нормы.
Дальнейшее исследование категории НПП целесообразно провести в направлении подробного изучения каждого его типа.
167
Блохин Ю. В. Критерии отграничения нормативно-правовых предписаний от ненормативных в советском законодательстве (на примере нетипичных предписаний). Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 1991. С. 12; Вопленко Н. Н. Нормы права. С. 3; Горшенев В. М. Нетипичные нормативные предписания в праве // Советское государство и право. 1978. № 3. С. 113–118; Заец А. П. Указ. соч. С. 23; Мицкевич А. В. Акты высших органов Советского государства. С. 43; Мирошниченко Т. Н. Нетипичные явления в советском праве. Автореф. дис… канд. юрид. наук. Харьков, 1985. С. 6; Тяжкий В. Г. Типовые предписания и государственные рекомендации в системе советского трудового права. Дис… канд. юрид. наук. С. 71.
168
Тяжкий В. Г. Типовые предписания и государственные рекомендации в системе советского трудового права. Дис… канд. юрид. наук. С.83–84. – Автор указывает на различия между НПП и логической ПН, существующей в идеальной структуре права, однако в дальнейшем при исследовании НПП использует термин «норма-предписание».
169
Об этом см., напр.: Алексеев С. С. Социальная ценность права в советском обществе. М., 1971. С. 87; Болдырев Е. В., Галкин В. М., Лысков К. И. О структуре уголовно-правовой нормы // Проблемы совершенствования советского законодательства. Труды ВНИИСЗ. Т. 1. М., 1974. С. 141; Пиголкин А. С., Вопленко Н. Н. Указ. соч.; Тихомиров Ю. А. Теория закона. М., 1982. С.204; Явич Л. С. Право развитого социалистического общества: сущность и принципы. М., 1978. С. 32 и др.
170
Алексеев С. С. Структура советского права. С.108.
171
Бабаев В. К. Советское право как логическая система. С. 182; Он же. Уровни правового регулирования общественных отношений и социалистический правопорядок. С. 93.
172
Бабаев В. К. Теория современного советского права. Нижний Новгород, 1991. С. 47. См. также: Теория государства и права / Под ред. В. К. Бабаева. М., 2001. С. 373–377.
173
Борисов Г. А. Отправные нормативные установления советского законодательства. Автореф. дис… докт. юрид. наук. Харьков, 1991. С. 24.
174
Борисов Г. А. Указ. соч. С. 24–25. – Все три названные позиции вызывают одно общее возражение, высказанное Ю. В. Кудрявцевым (см.: Кудрявцев Ю. В. Нормы права как социальная информация. М., 1981. С. 59, 61): не стоит употреблять один термин «норма» для обозначения различных понятий; это приводит к путанице и тавтологии («норма-предписание», «норма-правило»).
175
Болдырев Е. В. и др. Указ. соч. С. 141; Евграфов П. Б. Соотношение структуры советского права и структуры советского законодательства. С. 16; Иоффе О. С. Структурные подразделения системы права (на материалах гражданского права) // Ученые записки ВНИИСЗ, вып. 14. М., 1968. С. 45, 51; Мицкевич А. В. Указ. соч. С. 139–152; Пиголкин А. С., Вопленко Н. Н. Указ. соч. С. 13; Правоприменение в советском государстве. М., 1985. С. 22–23; Явич Л. С. Указ. соч. С. 30, 32, 39–41 и др.
176
Цит. по: Вопленко Н. Н. Нормы права. С. 3.
177
Евграфов П. Б. Соотношение структуры советского права и структуры советского законодательства. Дис… канд. юрид. наук. С. 152.
178
К примеру, общая ПН ст. 310 ГК РФ гласит: «Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом». Соответствующая ей специальная ПН содержится в ч. 3 ст. 838 ГК РФ и формально ничем от нее не отличается: «Определенный договором банковского вклада размер процентов на вклад … не может быть односторонне уменьшен банком, если иное не предусмотрено законом».
179
Мицкевич А. В. Указ. соч. С. 36.
180
Горшенев В. М. Нетипичные нормативные предписания в праве // Советское государство и право. 1978. № 3. С. 113–118; Он же. Норма права и иные нормативные обобщения в структуре советского права // Проблемы эффективности правового регулирования. Куйбышев, 1977. С. 3–14.
181
Мирошниченко Т. Н. Нетипичные явления в советском праве. Автореф. дис… канд. юрид. наук. Харьков, 1985.
182
Блохин Ю. В. Критерии отграничения нормативно-правовых предписаний от ненормативных в советском законодательстве (на примере нетипичных предписаний). Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 1991.
183
Мицкевич А. В. Указ. соч. С. 36.
184
Мицкевич А. В. Указ. соч. С. 43.
185
Мицкевич А. В. Указ. соч. С. 36.
186
Мирошниченко Т. Н. Указ. соч. С. 7.
187
Горшенев В. М. Указ. соч. С. 115.
188
Горшенев В. М. Указ. соч. С. 115.
189
Аналогичные взгляды обосновывает В. Н. Карташов, деля все НПП на стандартные – ПН и нестандартные, т. е. не имеющие трехчленной структуры (см.: Карташов В. Н. Теория правовой системы общества. Ярославль, 2005. С. 138–140).
190
Мирошниченко Т. Н. Нетипичное нормативное предписание: его природа и модификации. С. 10.
191
На несовпадние структуры ПН со статьей нормативного акта еще в 50-е годы указывало большинство сторонников классической концепции ПН (см., напр.: Александров Н. Г. Сущность права. М., 1950. С. 38; Он же. Законность и правоотношения в советском обществе. М., 1955. С. 90–91; Ткаченко Ю. Г. Нормы советского социалистического права и их применение. М., 1955. С. 21–22; Пиголкин А. С. Нормы советского социалистического права и их структура // Вопросы общей теории советского права. М., 1960. С. 178; Шебанов А. Ф. Нормы советского социалистического права. М., 1956. С. 34–38 и др.).
192
Горшенев В. М. Указ. соч. С. 6.
193
Блохин Ю. В. Нетипичные нормативные предписания: их место и значение в процессе совершенствования законодательства // Тезисы докладов на теоретической конференции аспирантов Института государства и права АН СССР. М., 1988. С. 4.
194
Многие из рассматриваемых явлений имеют очень древнюю историю. Например, презумпция знания закона (номологическая презумпция) существовала еще в период неписаного права, когда волю повелителей обнародовали в людных местах гонцы и глашатаи (см.: Черниловский З. М. Презумпции и фикции в истории права // Советское государство и право. 1984. № 1).
195
Панько К. К. Фикции в уголовном праве и правоприменении. Воронеж, 1998. С. 70.
196
Алексеев С. С. Общая теория права. Т. 2. М., 1982. С. 38; Евграфов П. Б. Соот ношение структуры советского права и структуры советского законодательства. Дис… канд. юрид. наук. С. 152.
197
Блохин Ю. В. Указ. соч. С. 5.
198
Тяжкий В. Г. Типовые предписания и государственные рекомендации в системе советского трудового права. Дис… канд. юрид. наук. С. 71.
199
Заец А. П. Указ. соч. С. 23.
200
Карташов В. Н. Теория правовой системы общества. С. 140–148.
201
Бабаев В. К. Презумпции в российском праве и юридической практике // Проблемы юридической техники. Сборник статей / Под ред. В. М. Баранова. Нижний Новгород, 2000. С. 323; Панько К. К. Указ. соч. С. 71.
202
Горшенев В. М. Нетипичные нормативные предписания в праве. С. 117.
203
Бабаев В. К. Презумпции в советском праве. Горький, 1974. С. 14.
204
Зуев Ю. Г. Уголовно-правовые презумпции: понятие, признаки и виды // Проблемы юридической техники. С. 333.
205
Бабаев В. К. Баранов В. М. Общая теория права: Краткая энциклопедия. Нижний Новгород, 1998. С. 74. «…С помощью такого приема законодатель стремится преодолеть им же установленный режим правового регулирования» (Зайцев И. Правовые фикции в гражданском процессе // Российская юстиция. 1997. № 1. С. 25).
206
Панько К. К. Указ. соч. С. 71.
207
Мирошниченко Т. Н. Указ. соч. С. 15.
208
Мирошниченко Т. Н. Указ. соч. С. 15.
209
То же самое можно сказать по поводу правовых фикций. В. И. Каминская указывает: «Ложь юридической фикции, несмотря на всю ее очевидность, не проникает в ее содержание, она относится к ее оболочке. На самом деле юридическая фикция представляет собой по своему содержанию просто норму права, регулирующую отношения объективной действительности (курсив наш. – М. Д.)» (см.: Каминская В. И. Учение о правовых презумпциях в уголовном процессе. М.; Л., 1948. С. 48).
210
Именно поэтому опровержение правовых презумпций не есть опровержение устанавливаемых ими общих правил. Опровергается лишь абсолютная универсальность правовой презумпции, т. е. доказывается ее неприменимость к данному конкретному случаю (см.: Панько К. К. Указ. соч. С. 45).
211
Горшенев В. М. Норма права и иные нормативные обобщения в структуре советского права // Проблемы эффективности правового регулирования. Куйбышев, 1977. С. 4.
212
Мирошниченко Т. Н. Указ. соч.
213
Бабаев В. К. Презумпции в российском праве и юридической практике. С. 326.
214
Курсова О. А. Юридические фикции современного российского права: сущность, виды, проблемы действия // Проблемы юридической техники. С. 455; Панько К. К. Указ. соч. С. 42.
215
Панько К. К. Указ. соч. С. 71.
216
Бабаев В. К. Правовая система общества // Общая теория права. Нижний Новгород, 1993. С. 105–110.
217
Бабаев В. К. Формальная определенность и возможность формализации законодательства // Советское государство и право. 1978. № 4. С. 49.
218
Шабуров А. С. Формальная определенность права. Автореф. дис… канд. юрид. наук. Свердловск, 1973. С. 23.
219
Не случайно Т. Н. Мирошниченко, развивая классификацию В. М. Горшенева, исключила из нее сроки.
220
Система советского законодательства. С. 26; см. также: Лейст О. Э. Санкции и ответственность по советскому праву. М., 1981. С. 18; Розин Л. М. Указ. соч. С. 78.
221
Алексеев С. С. Общая теория права. Т. 2. С. 38.
222
Ференс-Сороцкий А. А. Аксиомы и принципы гражданско-процессуального права. Автореф. дис… канд. юрид. наук. Л., 1989. С. 4; Бабаев В. К. Правовая система общества. С. 100; Явич Л. С. Право развитого социалистического общества. С. 39–40.
223
Черданцев А. Ф. Юридические конструкции, их роль в науке и практике // Правоведение. 1972. № 3. С.12.
224
Горшенев В. М. Указ. соч. С. 117–118.
225
Алексеев С. С. Структура советского права. С. 31.
226
Данную часть статьи Особенной части УК в уголовно-правовой литературе принято именовать диспозицией (см., напр.: Трайнин А. Н. Общее учение о составе преступления. М., 1957. С. 259; Уголовное право России. Общая часть. М., 1994. С. 23; Комментарий к Уголовному кодексу РФ. М., 1996. С. 49 и т. д.). Однако, по мнению некоторых правоведов, ее следует называть гипотезой (см.: Базылев Б. Т. Сущность санкций в советском праве // Правоведение. 1976. № 15. С. 34; Ныркова Н. А., Кропачев Н. М. Понятие уголовно-правовой санкции // Вестник ЛГУ. Серия 6. 1991. Вып. 2. № 13. С.107–108).
227
Кленова Т. В. Структура уголовно-правовой нормы и выражение ее в законодательстве // Советское государство и право. 1988. № 11. С. 82.
228
Комментарий к Уголовному кодексу РФ. С. 50.
229
Трайнин А. Н. Указ. соч. С. 260.
230
Юридические конструкции как «идеализированные» модели служат для связи НПП (см.: Талан Ю. М. Юридические конструкции в советском законодательстве // Развитие социальной деятельности советского государства и право. Межвуз. сб. науч. тр. Свердловск, 1980. С. 19), но не могут считаться самими НПП.
231
Мицкевич А. В. Указ. соч. С. 43.
232
Именно такой смысл вкладывает в понятие нормативности А. Ф. Черданцев (см.: Черданцев А. Ф. Толкование советского права. М., 1979. С. 6).
233
См., напр.: Деготь Б. А. Классификация норм советского социалистического права по их структуре. Саратов, 1977. С. 22–26. – Автор считает рекомендации свойственными скорее нормам морали, но не праву.
234
Не случайно именно в таком ракурсе рассматривает рекомендательные НПП Ю. В. Блохин (см. выше).
235
Алексеев С. С. Советское право как система: методологические принципы исследования // Советское государство и право. 1974. № 7. С. 17–18; Власенко Н. А. Элементы внутреннего регулирования в советском праве // XXVII съезд КПСС и развитие теории государства и права. Свердловск, 1987. С. 44; Он же. Коллизионные нормы в советском праве. Иркутск, 1984. С. 19; Буяков А. Ю. Юридические коллизии и способы их устранения. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1999. С. 7–8; Тяжкий В. Г. Типовые предписания и государственные рекомендации в системе советского трудового права. Дис… канд. юрид. наук. С. 71; Черданцев А. Ф. Системообразующие связи права // Советское государство и право. 1974. № 8. С. 11.
236
Заец А. П. Указ. соч. С. 23.
237
Дрейшев Б. В. Правотворческие нормы в системе советского права // Правоведение. 1976. № 5. С. 25–31.
238
Не в смысле технических правил, закрепленных в ПН, а в смысле НПП, закрепляющих правила юридической техники.
239
Законодательная техника. Научно-практическое пособие / Под ред. Ю. А. Тихомирова. М., 2000. С. 266.
240
Поленина С. В., Сильченко Н. В. Научные основы типологии нормативно-правовых актов в СССР. М., 1987. С. 15.
241
Пиголкин А. С., Вопленко Н. Н. Основные виды правовых предписаний в советском законодательстве // Проблемы совершенствования советского законодательства. Труды ВНИИСЗ, вып. 16. М., 1979. С. 15.
242
Алексеев С. С. Социальная ценность права в советском обществе. М., 1971. С. 87; Бабаев В. К. Теория современного советского права. Нижний Новгород, 1991. С. 47; Бойко Л. М. Законодательная техника: (теория и практика). Дис… канд. юрид. наук. Ташкент, 1984. С. 65. Евграфов П. Б. Соотношение структуры советского права и структуры советского законодательства. Дис… канд. юрид. наук. С. 152; Тяжкий В. Г. Типовые предписания и государственные рекомендации в системе советского трудового права. Дис… канд. юрид. наук. С. 71 и др.
243
Поленина С. В., Сильченко Н. В. Указ. соч. С. 13.
244
Поленина С. В., Сильченко Н. В. Указ. соч. С. 18.
245
Горшенев В. М. Нетипичные нормативные предписания в праве. С. 113–118.
246
Карташов В. Н. Теория правовой системы общества. С. 138–140.
247
Вопленко Н. Н. Нормы права. С. 9–10.