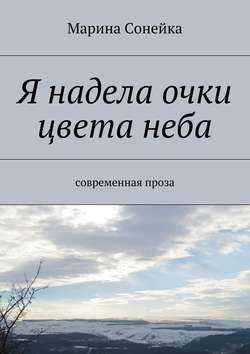Читать книгу Я надела очки цвета неба. современная проза - Марина Сонейка - Страница 2
I
ОглавлениеКаждая история имеет начало. Я начну прозаично.
Меня зовут Милена. Когда началась моя история, мне было 32 года. К тому времени я получила высшее образование, защитила кандидатскую диссертацию, работала в должности доцента в одном из институтов города. Жили мы с мужем Арсением отдельно от родителей в довольно уютном доме, усердно работали в будничные дни, по выходным встречались с друзьями, а в летние месяцы на неделю выезжали на море. В общем, наша жизнь протекала так, как жизнь среднестатистической семьи. Пожалуй, единственное, что отличало нас от обычных семей – отсутствие детей.
Я никогда не шла дальше разговоров о том, как было бы хорошо наполнить наш дом детским смехом; порой предавалась мечтам о детишках, вместо того, чтобы «родить и забыть», и меня долгое время не смущало такое положение дел. Сентиментальные беседы с супругом и другими мне близкими людьми на эту тему не придавали решимости сделать шаг, способный перевернуть всю мою жизнь.
Из уст кого только можно я слышала, что дети – это счастье, цветы жизни, что материнство – ни с чем несравнимая радость, чувство полного удовлетворения, смысл жизни. Мне деликатно (а иногда и не очень) напоминали о моём возрасте и со знанием дела говорили, что чем старше женщина, тем сложнее зачать, выносить и родить ребенка естественным путем. Я искренне верила этим чувствам и переживаниям, умиляясь деткам состоявшихся матерей, но крамольные мысли не покидали мою голову: «Дети? Нет, точно не сегодня».
На тридцатидвухлетнем году жизни мысли о материнстве настойчивее посещали мою голову, а «ничегонеделание» стало вызывать беспокойство. Я отдавала себе отчет, что отсутствие детей в нашем доме – моих рук дело. Арсений не настаивал, но промежду прочим намекал о желании иметь детей и делал это гораздо чаще, чем я, что казалось несколько странным. Многие мои знакомые молодые и не очень молодые мамочки инициировали зачатие и рождение ребенка, а некоторые беременели, используя «женские хитрости» ввиду упорного сопротивления их мужчин обзавестись потомством. Я негодовала от того, что у меня было иначе. «А хочу ли я вообще детей?» – задала я себе вопрос и приняла решение разобраться.
Прежде всего, интернет разубедил в единичности моего случая. Оказалось, проблема «рожать – не рожать» обсуждалась не менее активно, чем любой другой вопрос, касающийся взаимоотношений женщины и мужчины. Камень упал с плеч (я не одна «такая»), но облегчение было секундным. Напротив. «Что же за напасть на женщин – отказываются от материнства!» – взбунтовалась я.
Как источник информации интернет – потрясающая штука. Здесь можно найти всё: от научных трудов до «отсебятины». Меня интересовало и то, и другое, последняя – даже в большей степени. Учёные (социологи, психологи и т.д.) часто обобщают свои выводы, отсекают детали, жизненные тонкости, их выводы иногда основываются на опросах, которые, сказать прямо, в интимных вещах не всегда отражают реальные помыслы и поступки человека. Можно говорить, как дόлжно поступать, но это вовсе не означает, что мы поступаем так в действительности. Видимо, по этой причине я не пренебрегала информацией из социальных сетей, комментариями к статьям, форумами и другими ненаучными материалами.
Поиск ответов на известный вопрос неминуемо привёл к сообществу чайлдфри. Чайлдфри (от англ. childfree – «свободные от детей», «добровольно бездетные») – люди, которые придерживаются идеологии сознательного нежелания иметь детей по тем или иным причинам. Это сообщество возникло в США в 70-е гг. ХХ века, но популярность приобрело спустя 20 лет. Чайлдфри в России появились позже – в конце 2004 г. в виде виртуального сообщества, члены которого амбициозно, где-то даже агрессивно, заявляли о себе и своей идеологии. К чайлдфри не относили одиноких мужчин и женщин, которые не хотят детей вне брака; а также супружеские пары, не имеющие детей по независящим от них причинам (медицинские показания, бесплодие и пр.).
Предполагается, что женщина стремится к материнству инстинктивно. Такова её природная сущность. Но были и есть женщины, которые отказываются от этой роли, не желая в принципе её осуществлять, ни при каких обстоятельствах. Сама мысль о ребёнке наводит на них грусть и тоску, они воспринимают родительство как своеобразное принуждение со стороны общества. Если верить общедоступным данным, то у 7—8% женщин отсутствует материнский инстинкт.
– Надо же! – еле слышно пробормотала я и с жадностью продолжила читать статьи.
Интересно было узнать, что «не хотеть детей» и «откладывать деторождение» – не одно и то же. Эти явления имеют много общего, но ещё больше – отличного. «Нехотение» детей означает нежелание женщины быть матерью, а «откладывание деторождения» – нежелание рожать ребёнка в данный период времени при вполне конкретных обстоятельствах.
На страницах Демоскопа я обнаружила весьма интересные заметки по типологии чайлдфри. Выяснила, что первоначально учёные выделили два типа чайлдфри. Первый тип – те, кто испытывает отвращение к процессу рождения детей и к детям вообще. Это так называемые «реджекторы». Второй тип – те, кто дорожит своей свободой, предпочитает беззаботный бездетный образ жизни (так называемые «аффексьонадо»). Позже (в 2000 г.) аналитики выделили ещё два типа чайлдфри. Во-первых, это – те, кто с юности или с начала полового сожительства пользуются средствами контрацепции, изначально не отказываются от идеи деторождения, но вскоре временное «потом» переходит в «никогда» («постоянные откладыватели»). И, во-вторых, те, для которых характерны периодические приступы желания детей, но впоследствии расставляются приоритеты и они всё же принимают решение быть истинным чайлдфри («волнообразные отказники»).
– Итак, – произнесла я вслух. – Получается, что те, кто не хочет детей, относится к «реджекторам» или «аффексьонадо», а те, кто откладывает по тем или иным причинам рождение ребёнка – «постоянные откладыватели» или «волнообразные отказники».
Внутреннее чувство подсказывало, что я не отношусь ни к типу «реджекторов», ни к типу «аффексьонадо», т.е. к тем, кто не хочет детей в принципе. Но, на всякий случай, решила себя проверить. Где-то слышала или прочитала, что узнать о своих желаниях и потребностях помогает простой сеанс: в полной тишине, закрыв глаза, нужно представить конкретную ситуацию, а те чувства, которые испытываешь в этот момент, помогают понять положительное или отрицательное отношение к предполагаемой реальности. То есть я должна была в соответствующей обстановке представить себя матерью настолько детально, насколько позволяет фантазия, и запомнить свои ощущения, чтобы понять, хочу ли я ребёнка на самом деле. И я представила.
Сначала в голове возникали картинки сюсюканья с младенцем, его улыбка, первые шаги. Потом – как я с мужем прогуливаюсь по парку с коляской, в которой дремлет дочка (почему-то представляла именно девочку), как мы с уже трехлетней дочкой бегаем по лугу и ловим сачком бабочек, затем – учим алфавит, делаем уроки. Всё это и многое другое сопровождалось добром, радостью, удовольствием, безмятежностью. Мне нравилось это чувство, на душе было тепло и светло, я улыбнулась. Какие могут быть сомнения? Ответ на вопрос был очевиден.
Открыла глаза, эйфория прошла. «Нет, – подумала я, – недостаточно представлять картины, которые всякого будут воодушевлять. Ведь дети – это не только приятные заботы. Кроме того, сама беременность сопровождается определенными неудобствами, лишениями, переживаниями». Я решила повторить сеанс, но уже несколько иначе. Сначала – будто узнала о беременности и рассказала супругу. Потом – токсикоз, усталость, отеки, роды, пелёнки, бессонные ночи… Всё это мысленно разбавляла теми образами, которые представлялись ранее – сюсюканье, первые шаги и пр. Ничего, ничего не изменилось в ощущениях. Они также были теплы и светлы. Конечно, в глубине души я осознавала, что мои представления о беременности и материнстве только представления, ведь нельзя понять состояние, в котором никогда не пребывал. Но мне моих представлений, где-то преуменьшенных, а где-то преувеличенных было достаточно. «Всё же я хочу ребёнка!» – заключила я и осталась довольной результатом проведенного сеанса.
Я не относилась к той категории людей, которым для совершения определенного действия достаточно осознания истинных желаний. Поэтому я не побежала к супругу с криками: «Хочу ребёнка!» Радовало уже то, что мне не чуждо само желание материнства как таковое. «Пусть эта мысль вызревает, как семя, брошенное в почву», – такую установку я дала себе, полагая, что станет легче. Стало, но ненадолго. Прошёл примерно час и чувство спокойствия покинуло меня. «Если я желаю ребёнка, почему же медлю в исполнении, в чём причина?» – крутился вопрос в моей голове. И я продолжила заочное знакомство с сообществом чайлдфри.
Два с половиной часа пролетели незаметно. Причин откладывания или отказа от рождения детей оказалось предостаточно. Я негодовала от противоречивости своих чувств. С одной стороны, всё, что я вычитала, показалось глупостью, ничем необоснованной мнительностью части рода человеческого; с другой стороны, закралась мысль о сложности вопроса и тихое, но всегда действенное её продолжение: «что-то в этом есть». Можно как угодно оценивать мнения женщин, отказавшихся от деторождения или откладывающих его по той или иной причине, но нельзя не признать, что для них те страхи, на которые они ссылаются, вполне реальны. И это – факт, который следует, как минимум, принять.
Жизнь каждого человека индивидуальна, это во многом объясняет, почему мы по-разному ведем себя. Из всего списка оснований откладывания рождения детей ближе всего мне показалась та, которая связана с карьерой. И это неудивительно, поскольку моя жизнь лет с двадцати была посвящена идее о реализации себя на профессиональном поприще.
В современное время многие женщины стремятся построить карьеру, ну, или хотя бы занять достойное место в профессиональной среде. Женщин-карьеристок становится всё больше и больше, чему я до сих пор тихо радуюсь, ибо с увеличением числа представительниц физически слабого пола, занятых профессиональным ростом, становится слабее и давление общества, которое всё ещё видит в нас, женщинах, прежде всего исполнительниц традиционных ролей. При всей социальной важности таких сфер жизнедеятельности как домашнее хозяйство и воспитание детей, я считаю жизнь за пределами дома не менее значимой, да ещё и интересной. Более того, когда в семье работают и муж, и жена материально легче, а если есть ребёнок, то, конечно, у обеспеченных родителей больше возможностей для воспитания и развития чада.
Работу чаще всего хочется хорошую, чтобы и деньги приносила, и в кайф была; а чтобы такая работа была, нужно учиться, потом ещё учиться, потом работать и учиться… В общем, должно пройти немало времени. Вот и получается, что пока женщины то учатся, то ищут себя в профессии, то усваивают и совершенствуют знания, навыки и умения, деторождение откладывается на неопределённый срок. Конечно, эти рассуждения не абсолютны и касаются не всех, а только какой-то части женщин. Но именно к этой части, судя по всему, относилась я. Мои убеждения были однозначны – «первым делом – профессия, а потом – дети». Иное мне казалось безрассудным.
В процессе размышлений я вспомнила подругу – Виолетту. Она рано вышла замуж и родила двоих детей, после занималась их воспитанием, пока её супруг с переменным успехом зарабатывал на жизнь.
В один из тёплых весенних дней мы встретились с Виолеттой пообедать. Её дети уже выросли, поэтому появилось время не только ходить на подобные встречи, но и задумываться о дальнейшей жизни. Мысли о растущих материальных проблемах тревожили подругу и днём, и ночью. Замужество, рождение детей, а затем поглощение в их воспитание лишили Виолетту возможности получить достойное высшее образование, и, соответственно, найти хорошую работу.
За круглым столиком кафе сидели две молодые женщины: я и моя подруга. Каждая из нас в жизни достигла собственных успехов. Я имела высшее образование, учёную степень, работу, а моя подруга – дочь и сына. С удовольствием вкусив куриную лапшу, показавшейся нам какой-то особенной после непродолжительной прогулки по свежему воздуху, мы принялись обсуждать наши дела. Официант к тому времени принёс по чашечке кофе и чайник с зелёным чаем. Бесспорно, эти напитки способствуют дружеской беседе.
– Вот ты – молодец, – Виолетта начала меня нахваливать. – И образование, и работа, и самостоятельность. Стремишься к чему-то, постоянно какие-то идеи у тебя. Ребёнка бы только родить… Кстати, о птичках…
– Хм. – Я не готова была говорить на эту тему. И вовсе не потому, что не доверяла подруге. Просто не знала, как сформулировать мысли так, чтобы, скажем прямо, быть правильно понятой. Но поскольку на подготовку времени не было, я заявила первое, что пришло на ум: – С одной стороны, уже хочется малыша, с другой стороны, столько дел не переделанных.
– Но разве могут «не переделанные дела» останавливать женщину перед собственным счастьем? – Виолетта с недоумением посмотрела на меня.
– Меня же останавливают… – Ответила я без колебаний и с осторожностью глянула на Виолетту, будто боялась, что она усомнится в моих словах.
– Знаешь, ты права, – после недолгого раздумья продолжила подруга, облегчив тем самым мою участь. – Профессиональные достижения очень важны в наше время. Ведь только на себя можно рассчитывать, воспитывая ребёночка. По своему опыту знаю, что никому наши дети не нужны. Рассчитывать на поддержку государства? Смех, да и только. Стыдно вспоминать размеры социальных выплат на детей. Защищенности нет никакой. Моя знакомая, вроде бы и работает, а уйти в декрет как положено, по закону не может. Ей даже намекнули, что работу надолго бросать нельзя, мол, «кто, дорогуша, вместо тебя будет работать?» Вот и вынуждена женщина выходить на работу, не успев соскочить с родильного кресла. С детсадами у нас тоже вечная проблема: то их нет, то дорого, то воспитатели оставляют желать лучшего… Возмущению нет предела! Роди ребёнка, исполни долг перед обществом, как любят у нас говорить различные умники и именитые политики, и… сам решай свои проблемы. Так можно продолжать до бесконечности.
– Вот то-то и оно! – единственное, что пришло мне на ум ответить, хотя внутри уже тогда было чувство, что всё сложнее и запутаннее.
Виолетта вздохнула и продолжила:
– Как хорошо, что я родила в том возрасте, когда не задумываешься об этих проблемах. Была бы взрослее, не уверена, что решилась бы. Помню, я влюбилась, пелена на очи и все дела. Когда меня спрашивали, как же дальше жить будете, я парировала: «Как в сказке!» Беременность и роды перенесла очень легко. С другой стороны, видишь, у молодых родителей другие проблемы. В моей ситуации радует то, что я смогла подарить любовь и ласку детям в том возрасте, когда она им особенно нужна.
– Много причин для негодования! – возмутилась я, хоть и в спокойной манере. – Вообще, странная ситуация получается! Я откладывала с рождением ребёнка, занимаясь карьерой, планируя достойно воспитывать и содержать его, но столкнулась с тем, что теперь не могу остановиться… – Я мысленно запнулась и, взглянув на Виолетту, продолжила. – Ты же – отдала предпочтение раннему материнству, но теперь сталкиваешься с денежными трудностями.
Некоторое время мы сидели молча и глядели друг на друга, будто сговорившись. Не могу без улыбки вспоминать выражение наших лиц: брови слегка приподняты, глаза чуть выпучены, ни капли интеллекта. Время будто остановилось. Мы, что называется, «зависли».
– Знаешь, – вдруг меня осенило, – всё же ты находишься в более выгодном положении, чем я. Вот смотри: ты родила детей, они уже выросли и относительно самостоятельны. Кто мешает тебе, моя дорогая подруга, именно сейчас заняться карьерой? Ты, например, можешь поступить в вуз по заочной форме, сразу же пойти работать и так далее. Ты уже взрослая, более ответственно отнесёшься к выбору профессии, учёбе, сознательно будешь идти к получению знаний, приобретению навыков. Вот я, помню, хоть и училась добросовестно, но серьёзно к обучению подошла позже. Лет до двадцати мою голову занимали совершенно другие мысли: любовь, секс, замужество, дети… В институт я поступила и окончила его не потому, что волновалась о будущем, а потому, что было модно получать высшее образование. Да, я понимала, что учиться нужно. Но я охотнее бы сдавала экзамены по репродукции человека. Это потом затянул меня в сети карьеризм, да так, что выбраться из них не могу до сих пор. Всё боюсь чего-там не успеть, упустить. Да и потом, сказать, что на сегодняшний день я достигла каких-то там высот, тоже не могу. Мне ещё много, очень много нужно сделать, чтобы состояться в той профессии, которую я выбрала. Причём желательно не останавливаться в достижении целей, иначе – возможна не остановка, а прибытие к месту назначения. Если я решусь забеременеть, мне придется совмещать и работу, и домашние дела, и воспитание ребёнка, а это куда сложнее, если, вообще, по силам. В какой-то сфере всё равно будет не доработано. Так что, твой возраст и положение самые подходящие для освоения профессии и продвижения по карьерной лестнице. Решайся!
– Возможно, ты права. Я вовсе не думала об этом.
Мы с Виолеттой обсудили, в какой вуз можно поступить учиться, чтобы получить хорошее образование, другие интересные идеи, связанные с разрешением насущной проблемы подруги.
– Теоретически, – заключила Виолетта, – всё отлично. Как это будет выглядеть в реальной жизни – посмотрим.
– Интересно, – риторически вопросила я, – почему «ранние браки – поздний карьеризм» у нас не популярны? Думаю, это было бы удобно всем, в том числе обществу и государству. В юном возрасте и здоровье крепче, и не задумываешься о социальных проблемах. Вся жизнь в ярких красках. По-моему, самый лучший настрой для вынашивания ребёнка, его рождения и воспитания. В то время как для карьеры, по моим убеждениям, лучший возраст – более зрелый.
Мы рассчитались за заказ, вышли из кафе, прогулялись немного по улице Пушкинской, и расстались с подругой в приподнятом настроении.
Не могу сказать, что к 32 годам я достигла всего того, о чём мечтала, но относительный профессиональный успех у меня всё же был. Однако понимала я и другое – моё состояние как карьеристки напоминало нахождение между небом и землей. Я будто оторвалась от земли, но ещё не была на небе. Хотела быть звездой, но мой взор был только устремлен к звёздам. Я вроде бы добилась определенных результатов на профессиональном пути, но до финала было далеко. В лучшем случае, по моим представлениям, положение было ближе к середине. Для того чтобы идти дальше, я хотела шагнуть на следующую ступень – защитить докторскую диссертацию и получить степень доктора наук.
Не буду кривить душой, защита докторской диссертации меня давно привлекала, хотя я прекрасно понимала, что это потребует много времени и сил. Осознавала я и то, что в случае принятия мной решения писать и защищать докторскую работу, вопрос с рождением ребёнка придётся отложить на несколько лет. В лучшем случае, года на три. По моим представлениям написание научной работы и воспитание маленького ребёнка исключали друг друга. Приняв же решение сделать перерыв в научном творчестве (до тех пор, пока ребёнок не подрастёт), я рисковала предать забвению научную мечту.
Говорят, что Вселенная слышит наши желания и предоставляет возможность для их исполнения. Радости не было границ, когда от профессора из Санкт-Петербурга, знакомого со времён защиты кандидатской диссертации, поступило предложение быть моим научным консультантом. Предвкушение научного счастья не давало мне покоя, а потому после недолгих раздумий я всё же приняла предложение профессора, решив писать и защищать докторскую работу. Что же, победила карьеристка… Во всяком случае, такой я сделала вывод, когда набирала номер телефона профессора, чтобы договориться о встрече с ним в Санкт-Петербурге для составления «дорожной карты».
Воодушевленная идеей, я тешила себя мыслью, что в современные женщины, откладывая рождение ребёнка до наступления более зрелого возраста и психологической готовности к материнству, вполне успешно беременеют и рожают в возрасте 30—35 лет (а я попадала в эту возрастную категорию). Я читала статьи психологов и медиков о достоинствах и недостатках поздней беременности (после тридцати лет), изучала биографии известных бизнес-вумен, представительниц шоу-бизнеса и звёзд Голливуда, которые успешно стали матерями после тридцати пяти. Свой выбор я считала оправданным с той только оговоркой, что процесс написания и защиты диссертации должен происходить в ускоренном режиме. Не желая терять время, я договорилась с профессором о совместном составлении примерного плана докторской диссертации, чтобы приступить к её написанию.
Перед поездкой в Питер, которая была запланирована на весну-лето (зимой, когда мы созванивались с профессором, я не могла уехать из-за плотного графика на работе), мне удалось написать два параграфа по предварительному плану, которые я с надеждой на положительный отзыв отослала профессору по электронной почте. Необъяснимый прилив сил способствовал научному творчеству. Я с энтузиазмом читала литературу и делала записи практически до самой поездки, которая состоялась только в августе месяце. Такое расположение духа подбросило в голову сумасшедшую мысль, что я напишу диссертацию очень быстро, а её такая же скорая защита с лихвой компенсирует мои переживания по поводу затягивания времени с рождением ребёнка.
С высоко поднятой головой я шагала по Санкт-Петербургу в ресторан, где мы договорились пообедать с профессором и заодно обсудить наши дела.
Мы давно не виделись с Алексеем Михайловичем, поэтому наша встреча началась с любезностей и комплиментов, отпускаемых друг другу, разговоров о делах в целом. Прошло около часу, но разговор «о самом главном» не заходил. Чувствуя, что здесь что-то не так, я начала волноваться, внимание рассеялось. Видимо, профессор это заметил. Он, будучи культурным, интеллигентным человеком, не стал бить как обухом по моей симпатичной головке. Воодушевив меня похвалой по поводу мастерства моего письма, он деликатно сообщил, что для диссертации написанный материал не годится. «Что? Почему? Как?» – один за другим крутились в голове вопросы, и я получила ответ: «Милена, девочка моя! Тебе нужно формировать и развивать мышление на уровне доктора наук», – объяснил профессор.
Ещё некоторое время мы обсуждали наши дальнейшие шаги, я охотно слушала его пожелания, замечания, рекомендации. Потом мы прогулялись по Невскому проспекту и расстались, условившись, что будем работать дальше, и непременно всё получится.
В нашей встрече с профессором судьбоносной оказалась его фраза: «Тебе нужно формировать и развивать мышление на уровне доктора наук». Возможно, это понимала и я на стадии написания частей работы. Формирование и развитие этого самого мышления происходит само собой, когда учёный в течение многих лет занимается той или иной научной проблемой. Видимо, я недостаточно времени посвящала изучению научной проблемы.
После встречи с профессором для меня стало явным лишь то, что процесс написания и защиты докторской диссертации вдруг (нежданно-негаданно!) дополнился ещё одним этапом, предварительным, так сказать – формированием и развитием «докторского» мышления. Мысль о том, что соответствующий процесс растягивается во времени, не радовала меня. Я не могла даже предположить, сколько мне понадобиться лет, чтобы мыслить как доктор наук и это при том, что само по себе чтение и осмысление прочитанной литературы требует немалых временных затрат.
Я почувствовала себя у разбитого корыта. Ведь не входил в мои планы этот предварительный этап. Никак не входил. На всё про всё не меньше пяти лет! А мне было тридцать два года! Как же скорое счастливое материнство, которого я так желала? Опять наступило время обдумывания и принятия решения.
Хоть я и грустила в недельном отпуске в Санкт-Петербурге, размышляя о происшедшем, не могу сказать, что поездка не принесла мне ничего радостного и приятного. Конечно же, я оббегала все возможные книжные магазины и купила десяток книг, посетила библиотеки и пр. Но мою печаль скрасило вовсе не это. Поездка была удачной потому, что в путешествие со мной отправились моя старшая сестра и племянница. Так совпало, что у племянницы, которая занималась несколько лет танцами, в Питере был очередной фестиваль. Так что мы втроём замечательно провели время, гуляя по знаменитым местам культурной столицы. Правда, только спустя время, я поняла, как хорошо, что в тот момент моей жизни, очень тревожный для меня, они были рядом, пусть до конца так и не разделив моей личной трагедии.
После приезда домой из Питера меня не покидали мысли о тщетности желания в скором времени написать и защитить докторскую работу. В процессе обдумывания всей сложившейся ситуации, мне вспомнился случайный разговор с коллегой по работе.
Как-то после лекции я зашла на кафедру передохнуть перед очередной встречей со студентами. На угловом диванчике сидела доцент кафедры, листая научный журнал.
– Здравствуйте, Елизавета Николаевна! – поздоровалась я с обворожительной блондинкой.
– Добрый день! – ответила она и приветливо улыбнулась.
Я поинтересовалась делами коллеги, спросила о здоровье её маленькой дочурки, затем мы поговорили о работе, о студентах, о реформах в образовании. Наконец, я спросила у Елизаветы Николаевны по поводу защиты докторской диссертации, которую обсуждали на заседании кафедры ещё до того, как она стала мамой.
– Думаю, – немного помолчав, ответила Елизавета Николаевна, – что защищу в перспективе работу. Её надо вычитать, подчистить, кое-что изменить. Малышка моя не даёт мне довести дело до конца в настоящее время. Она требует много внимания к себе. Ну, ничего. Это дело житейское. Годом раньше, годом позже, но буду доктором наук. Сейчас главное – не это!
Помню, я была потрясена легкостью её рассуждений. Видимо, при желании можно найти выход из тупика. И мне предстояло его найти.
Через пару деньков размышлений, взвешивания всех «за» и «против» мной было принято решение внести коррективы в план достижения профессиональных целей. «Во-первых, – рассуждала я, – если я думаю, что после рождения ребёнка у меня пропадёт желание заниматься научной деятельностью, значит, наука как сфера деятельности мне не интересна. Если я люблю своё занятие, то ни что меня не остановит перед достижением цели, рождение ребёнка – тем более. Во-вторых, идея защитить докторскую работу в кратчайшие сроки, не буду кривить душой, обречена на провал. Зная себя и своё отношение к исследованиям, могу предположить, что пока я не разберусь в своём научном направлении на все сто или хотя бы девяносто процентов, меня в диссертационный зал не загонишь. А для осмысления проблемы мне потребуется значительное количество времени. Помимо этого, надо помнить, что в доктора наук попасть до тридцати пяти, а то и до сорока лет могут только избранные или гении. Я не отношусь к их числу. В-третьих, зачем мне писать и защищать диссертационную работу наспех. Исследование такого уровня надо смаковать… Так что, для переживаний нет повода. Защита работы в более зрелом возрасте скорее плюс, чем минус».
Итак, поскольку «формирование и развитие мышления доктора наук» – процесс длительный, я предложила самой себе беременеть и рожать сейчас, в процессе ухода за малышом изучать литературу, делать научные заметки, а после достижения ребёнком двух-трёх лет попыхтеть над написанием работы и вскоре её защитить. «Вот и замечательно!» – довольно улыбнулась я, полагая, что теперь-то моё профессиональное Эго успокоится и даст возможность другому Я реализовать себя в другой роли – роли матери.
Вроде бы план был хороший, великолепны были и его обоснования… Однако после размышлений и корректировки плана достижения цели я точно также не кинулась супругу на шею с восторженными криками: «Давай делать детей прямо здесь и сейчас!», как не сделала это после осознания истинного желания относительно материнства. К моему превеликому удивлению! Я же искренне полагала, что именно она – докторская диссертация, стоит преградой на пути.