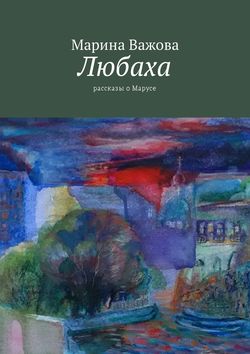Читать книгу Любаха. Рассказы о Марусе - Марина Важова - Страница 4
ЛЮБАХА
БОЛЬНИЦА
Оглавление– Эй, ты чего здесь сидишь? Замёрзнешь ведь.
– У меня… Мне…
– Карточки есть?
– Нету, украли карточки, обещали…
Но женщина уже не слушает, открыла дверь и вошла, отвернувшись от Любахи. Наверно, сестричка, белый подол из-под тулупа торчит, молодая ещё. Не хотят её в больницу без карточек брать, и слушать не хотят. Вот возьмёт и помрёт тут прямо у дверей. Небось начальство не похвалит.
Сон убаюкивает, снег заволакивает. Тепло так, хорошо, спокойно. Ничуть умирать не страшно, зря боялась, с голодом боролась, суетилась зачем-то. Хлеб опилочный, чай из дубовой коры – кому это надо? Любахе больше не надо. Здесь останется. А как же Нинка с Настей без неё? Так они всё равно помрут – хлеба-то нет. А если крёстная с дежурства придёт, то спасёт их, или Лену́шка приедет. Они спасутся, а Любке уже всё равно, лишь бы полежать, чтобы не гнали и не трогали.
– Так, кто у нас здесь сидит? Ты живая или нет?
– Живая…
– Почему под дверями? – Голос мужской, приятный, не грубый. Этот может помочь.
– Меня без карточек не берут.
– Ах, вот как. Понятно…
Ушёл. Зря только разбудил. Сон такой хороший Любахе снился. Будто батя пришёл домой после получки, а в руках большая сумка, с которой они в баню ходят. И достаёт он из сумки пакеты и банки всякие, и что-то, в промасленную бумагу завёрнутое. А ещё яблоки. Много яблок, красных и блестящих. А они все: мамка, Нинка, Настя и соседский Лёнька сидят за столом и ждут чего-то главного. Потому что, пока это главное батя не достанет, ни к чему прикасаться нельзя – иначе всё исчезнет. Они знают и терпят, хотя есть очень хочется. Но вот оно, уже держит батя, в газету завёрнуто, кирпичиком в руках так ладно сидит. Сейчас батя развернёт кирпичик, и они есть начнут, мамка консервный нож приготовила – банки открывать.
Нет, разбудил, чёрт чернявый. Любаха заметила, что он смуглый, а волосы и глаза тёмные. Зря только разбудил, так и не узнала, что в бумаге, что за кирпич, без которого есть нельзя… Так это же хлеб был! До войны всегда мамка говорила: не ешь без хлеба. А теперь хлеб – основная еда, без него и есть нечего.
Вот закончится война, батя с фронта придёт, Саватеевы из эвакуации возвратятся, крёстная и Лену́шка дома жить станут – опять квартира оживёт. С утра – самовар на столе и весь день не сходит, всё кто-то чай пьёт. Не квартира, а проходной двор. Так крёстная говорит, не нравятся ей эти постоянные застолья и шумные разговоры. И Лёва, сын крёстной, возвратится домой. Не важно, что писем давно нет, Любка верит, что с ним всё хорошо. Ему только шестнадцать исполнилось, но Лёвка себе два года приписал и на фронт добровольцем ушёл.
Все соберутся, значит, за круглым большим столом, мамка свою картофельную запеканку с луком достанет из-под полотенца – тёплую ещё. Батя по такому случаю, конечно, бутылочку раздобудет, а крёстная с работы сахар принесёт. Она для сына копила, на работе в шкафчике держала, а домой не несла, чтобы нам соблазна не было. Теперь, раз Лёвка вернулся, сахар – на стол. Патефон заведём, пластинки будем слушать. А потом опять поедим. Ведь война закончилась – можно есть, не экономить. Саватеевы из Самарканда вяленых абрикосов привезут и орехов целый мешок. Ленушке на торфоразработках дадут паёк на неделю вперёд. Жалеть нечего: раз война кончилась, всё наладится.
Только Нинки с Настей нет за столом. Куда же они подевались? Неужто померли, не дождались, когда Любаха им хлеба принесёт? Да нет же, вот они, из кухни по коридору идут, и у каждой противень в руках, а на противнях… Пирожки! Маленькие, с золотистой корочкой, какие мамка всегда печёт.
– С рисом и яйцом, – говорит Нинка и смеётся радостно. А Настя молчит, глаза опустила, стесняется своих распухших ног.
– Дайте-ка нашей младшенькой, нашей Любахе пирожков попробовать. Ведь если бы не она, не сидеть бы нам здесь и не праздновать, – говорит батя весомо.
Вот он кладёт на тарелку два пирожка и к Любке пробирается, но никак не может подойти: то стулья плотно наставлены, то самовар между ними. Что же это такое, почему все мешают, ведь Любаха так ещё ничего и не поела. Ведь она голодная, го-лод-ная…
– Эй, ты как, жива? – опять чернявый. Видать, доктор, стетоскоп на шее поблёскивает. Темень кругом, видно, ночь уже, только над дверью лампочка тусклая.
– Пирожки… пирожков хочу…
– Ну-ка, кто там, Егоровна, Катя, быстрее её в помывочную! И чаю, чаю сладкого сначала дайте! Если уж пирожков хочет, жить будет.
На каталку усадили и везут по длинным коридорам. Свет и тьма полосами перемежаются, аж голова заболела. Вот заехали куда-то в теплый закуток. Шум воды, бормочут что-то меж собой. Одежду принялись снимать.
– Всё в печь, там вши и зараза может быть, – командует беззубый бас.
Никаких вшей нет, это у Насти вши. Или у Нинки? Но пусть сжигают, значит, новое дадут.
– Чаю, чаю мне сладкого. Слышали, что доктор сказал?
– Эта доходяга ещё нас с тобой переживёт, – опять беззубый бас. – То пирожков ей, то чаю сладкого. Хлеба не просит, не-е-е.
– Карточки украли, нет больше хлеба, – выдохнула разом и во тьму провалилась горячую…
Светло как! День уже, а она всё лежит. И никто не разбудит, не скажет: иди, мол, Любаха, за водой сходи, дровишек каких поищи. А за хлебом-то! Ведь опоздала, не достанется хлеба сегодня! Так ведь за хлебом теперь не получится, КАРТОЧКИ УКРАЛИ… А Нинка с Настей почему молчат? Неужто померли? И почему кроватей так много? Что это вокруг? Ведь не их комната, а громадная, прямо зал. А-а-а… так это больница, я в больнице лежу!
Надо оглядеться, что тут за порядки. Кровати посреди зала в два ряда стоят, спинка к спинке, тумбочки справа, кое-где табуретки. Молчаливый народ лежит, только кашляют, разговоров никаких. Встать бы да пойти туалет искать. А вот и тапки: большие, войлочные обрезанные валенки. На спинке кровати – стеганый серый халат. Да не халат вовсе, а длинный ватник с торчащей кое-где ватой. Надеть и скорее идти. Вот коридор, никого нет. Так, тут что? Палата такая же, как у неё, и так же все молча лежат, не понять, кто живой. А здесь? Кабинет со шкафами и столом посередине.
– Тебе чего, мальчик? – из-за шкафа появляется фигура в белом халате и косынке, видать, медсестра.
– В туалет надо, – Любаха дотрагивается до своей головы и натыкается на короткий колкий ёжик волос. – Только я девочка, Люба Бологовская.
– А, ты из седьмой? Та, что без карточек? Молодец, что встала. Иди направо, за угол заверни. Только не спеши, а то на кафеле поскользнуться можно.
Сколько уже времени прошло? Час? День? Неделя? А она всё лежит в этом громадном зале, как больная. Но ведь она вовсе не больна, ослабла малость, силы потеряла. Надо просто поесть, горяченького попить и можно встать. Вон по коридору каталка едет. Или покойника везут, или еду. Остановились, вот и дверь открывается. Ведро и кастрюля – значит, поесть дадут.
– Эй, кто ходячие? Обедать.
Несколько теней встают с кроватей, Любаха быстрее всех. Боком, боком и уже первая у каталки. В миску плюхнули баланды, в ней труха какая-то плавает, а запах! Пахнет чем-то жареным. Хлеба три куска дали и чай. Да ещё с сахарным песком! Ложкой из банки достают – и в кружку. Скорее поесть, может, добавка будет.
– Бологовская, раз ты уже ходишь, помогай раздавать. Да покорми, кого сможешь.
Покормить – это можно. Вот, бабушка, тебе супчику. Сама есть стала, идём дальше. А эта спиной повернулась, спит, что ли? Эй, гражданочка, обедать давайте! Холодная уже. Тут больная умерла, слышите! Ну, а здесь у нас кто? Вроде дед, весь в седой бороде. Дедушка, пора обедать! Ага, шевелится, значит, будем кормить.
Вот это другое дело. Что толку лежать, шевелиться надо, двигаться больше. Так доктор сказал: будешь двигаться – будешь жить. А ведь жить хочется! Особенно теперь, когда кормят каждый день.
Потом на кухню: посуду мыть. Ей разрешили. Кастрюли большущие с пригорелой кашей. Только велели быть осторожной. Ну, чтобы не переедать, а то может скрутить в одночасье. Любка понимает, перерывы делает. Отскребёт пригорелую кашу от дна кастрюли – до чего вкусна эта пригорелая корка! – всю сразу не ест. Вообще сама всё не ест, таскает в палату двум маленьким девчонкам, они на поправку пошли, есть начали, а выписывать их некуда – дом разбомбило, все погибли, пока они к реке за водой ходили. Нянечка сказала, что в детдом их отправят скоро, а пока Любка их подкармливает.
Так весь день и ползает: то судно выносить, то кормить, то посуду мыть. Но к вечеру сама валится без задних ног. Вот тут-то они и подступают со всех сторон: мамка, батя, Нинка с Настей, соседка тётя Вера. Молчат, только смотрят на неё, на руки её смотрят, в которых она миску с пригорелой кашей держит. Так нате, поешьте. Любаха протягивает им миску, а там уже ничего нет, всё раздала. И Лёвушка, сын крёстной, тоже здесь, улыбается, а сам голову опустил, пилотку в руках мнёт.
– Лёвка, ты живой?
– Ну, а сама как думаешь? – и тут поднимает глаза, а это и не Лёвка, оказывается, а Лёня, тёти Веры сын, который в эвакуацию с училищем уехал. Ей стыдно, что она его перепутала. Хотя Лёвка, Лёнька – похоже, может и не заметил.
– Ты ведь уехал в Самарканд. Уже вернулся? А знаешь, ведь мама твоя…
– Знаю, потому и вернулся, ведь надо похоронить по-человечески, а то её со всеми в одну яму сбросят.
Любаха молчит: как ему сказать, что уже похоронена тётя Вера и в одну яму со всеми положена. Так теперь всех хоронят. Но пусть сам узнает, не от неё. Вот он поворачивается, и все тоже поворачиваются и уходят, только Настя медлит, силится что-то сказать, губы разъезжаются: то ли засмеётся, то ли заплачет. Отвернулась и за остальными пошла…
– Доктор, а можно я ещё у вас тут в больнице поживу? Я ведь не просто так, я помогаю.
– Конечно, поживи, Любаха, живи, сколько хочешь.
– А мои-то как? Они приходят каждый вечер, ничего?
– Пусть приходят, нам не жалко. Главное, чтобы ты ночью спала, не колобродила.
– Так я и сплю ночью, за день набегаюсь и сплю.
– Ну, не всегда спишь. Сегодня ночью кто палкой стучал и всех перебудил?
– Кто стучал? Я не знаю, кто стучал, а я спала, ничего не слышала.
– Нам же всем утром вставать на работу. Томася так и пошла, не выспавшись, всё к тебе бегала, ты есть просила, а сама так ничего и не съела.
– Ну не буду, не буду больше. Это всё они, приходят голодные, мне их жалко. Особенно Нинку с Настей, ведь они без карточек остались. Хотя, наверно, померли уже.
– Так они все давно померли, Любаха. А мы пока живые и хотим ночью спать.
***
Пианино появилось у мамы после переезда, когда по случаю рождения двойняшек совхоз выделил семье полдома в три комнаты. Раньше ему просто не было места. Увеличенная площадь сама по себе ничего не решала. Везти громоздкий инструмент из города было хлопотно и дорого. Помог случай: из соседнего военного городка Каменка уезжала семья офицера. Вот тут и совпали интересы офицерской жены и Марусиной мамы. Недолгие переговоры, стремительный торг и – пожалуйста! – уже через день пианино было доставлено на грузовике под защитным тентом, с предосторожностями выгружено и занесено в гостиную – самую большую комнату дома. Дядя Саша пришёл с работы, а оно уже стоит на самом почётном месте, оттеснив комод в крохотную спальню. Он только крякнул с досады, но потом, обдумав, смирился и даже повеселел, решив, что теперь Любушка будет поменьше порхать с гитарой по совхозу.
Народ потянулся смотреть невиданную для деревни вещь – пианино. Старинное, матово-чёрное, с бронзовыми подсвечниками по бокам и костяными желтоватыми клавишами. Вещь солидная, антикварная. Маруся сунулась было побренчать, но мама категорически запретила даже поднимать крышку. Она сама его настроила, для чего два раза ездила в Ленинград покупать инструменты: камертон, настроечный ключ, клинья, а потом колки и струны для замены.
Когда всё было готово, собрались гости, и мама, нарядная и загадочная, села на специальный вращающийся стул, который шёл к инструменту бесплатным приложением. Она подняла крышку, секунду промедлила с застывшими над клавишами руками, а потом сделала очень быстрый взмах правой рукой в сторону гостей, захватив в этом взмахе летучие, вибрирующие звуки. И не дав опомниться, понеслась руками в обратную сторону, выбивая из загудевшей клавиатуры бравурную мелодию. Маруся чувствовала, как мамины пальцы, касаясь гладкой, скользкой поверхности клавиш, каким-то образом касаются и её, Марусиной груди, оставляя на коже пупырчатые мурашки.
Остальные, похоже, ничего такого не ощущали, слушали с застывшим почтением, молча. Только сосед дядя Ваня, дождавшись паузы, добродушно произнёс: «А кроме Шульберта сыграть что-нибудь можешь? Так, чтоб подпеть или сплясать». Мама усмехнулась, тряхнула кудрявой завитой головой и всех к столу пригласила – выпить-закусить. И сама пила наравне с мужчинами, а потом развернулась к пианино и, ещё не присев на круглый стульчик, заиграла шумно и лихо, временами срываясь неверными пальцами с полировки клавиш. Но этого никто не замечал, народ громко подпевал, заказывая всё новые песни. Мама то соглашалась и играла, то мотала головой и предлагала лучше выпить. Концерты продолжались до середины ночи, пока не кончалась выпивка. Мама их называла «исполнить Шульберта», но при Марусе они случались крайне редко. Стеснялась мама своей городской дочки.