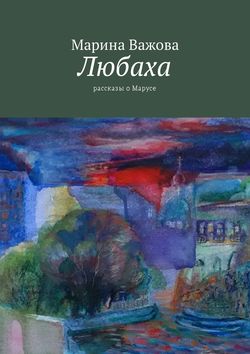Читать книгу Любаха. Рассказы о Марусе - Марина Важова - Страница 5
ЛЮБАХА
РЕМЕСЛЕННОЕ
Оглавление– Ну, Бологовская, будем тебя выписывать.
Любаха сидит в кожаном потёртом кресле в кабинете у доктора, Григория Давыдовича. Тот не смотрит на Любку, он разглядывает и протирает свои очки в чёрной оправе с примотанной изолентой дужкой. Доктор провёл обычную бессонную ночь, и небритые щёки усиливают тени от скул.
Когда-то это должно было случиться, её и так держат в больнице почти два месяца. Она бы и жила тут, пока война не кончится, но надо идти домой. Только что ей там делать, ведь никого нет. Да и привыкла она уже, прижилась, как-то страшно уходить. За это время поняла с однобоким сознанием внезапно разбуженного человека, до какой черты вымирания она почти дошла. Теперь-то что, жить можно! Перестали мучить мысли о еде, зубы меньше шатаются – всё благодаря сосновой трухе, которую в кашу сыплют. А что ей одной дома делать? Нинка и Настя умерли. Крёстная на казарменном положении, домой почти не приходит, Лену́шку перекинули окопы рыть, остальные где-то сгинули в эвакуации – ни слуху, ни духу.
Как бы читая её мысли, Григорий Давыдович поднимает голову: «Шла бы ты в ремесленное учиться. На „Красный Октябрь“, тут недалеко. Специальность получишь, паёк рабочий дадут и кормить будут три раза в день. Там и общежитие есть, если тебе пойти некуда. Вот я записочку дам к директору, лечил его после ранения»…
Любка выходит из дверей больницы, скашивает глаза на то место, где она чуть не замёрзла насмерть. Спасибо доктору, спас он её. И записку вот дал, и объяснил, как добраться. Хотя Любаха хорошо знает Васильевский, дорогу найдёт, но всё же Григория Давыдовича слушает, не перебивая, – может, никогда больше и не увидятся они, кто знает? И он всё подробно разъясняет: до Среднего дойти, там повернуть направо и идти к Восьмой линии, а потом так по ней и двигать в сторону Малого проспекта.
Вот выходит Любка на улицу, а там уже весной пахнет. Сугробы низко осели, почернели, ручейки бегут, образуя озёра в разбитом бомбёжками асфальте. Небо такое нарядное, голубое, чистое, и не верится, что война где-то гремит-полыхает, что это только временное затишье. Мёртвая тишина блокадного города…
Хотя за два больничных месяца Любаха немного стала на человека похожа и голодный бред почти отступил, но она всё помнит. И всегда будет помнить. Война закончится, они победят, снова будет вдоволь еды, будет хлеб, настоящий хлеб. Ешь сколько хочешь! И бомбёжки прекратятся, и метроном перестанет частить, а будет спокойно отсчитывать мирное время. Только надо потерпеть, надо всё перетерпеть и выжить. Обязательно выжить!
– Я живучая, всё выдержу, – Любаха повторяет это на выдохе, в такт шагам. Только ноги плохо слушаются, вроде на месте топчутся. Никакого ветра нет, а стена воздуха впереди осязаема. Давит, давит, вперед не пускает. Похоже, и к вечеру не дойти…
– Вот поднялся Вяйнямёйнен,
стал на твердь двумя ногами
там на острове средь моря
там на суше без деревьев,
– голос Томаси успокаивает, и будто нет никакой войны, блокада снята, и все вернулись живые и здоровые.
Это из «Калевалы», у крёстной была такая книга, наша семейная реликвия. В детстве Любка местами наизусть её знала. Как хорошо, что Томася ей читает каждый вечер, сама она уже не может: не видит ничего, и очки не помогают.
– Читай, читай, доча. Это наша родовая книга. Бывало, крёстная её наизусть нам пересказывала. Мы с Лёвкой тоже многое помнили. Да вот ушёл он на войну и сгинул.
Многие сгинули, а некоторые вернулись. Стоят у своих домов, курят, рады, что живы остались, что ждали их. И батя такой весёлый, Любахе руку подаёт, вперёд тянет и пальцами щёлкает, подгоняет:
– Не бойся, Любка, мы с тобой сильные, выживем. Обопрись на меня, и пойдём. Высоко подниматься, долог и труден путь, неприступны преграды, но в конце пути ждёт нас… Ты ведь знаешь, Любаха, зачем нам на эдакую верхотуру забираться надо?
Знаю, знаю, он там. Единственный остался с прежних времён. Только бы на него посмотреть, руками дотронуться. Столько о нём говорили, но увидеть пока так и не пришлось. А он ведь с прошлого века там стоит. Тяжеленный, огромный, ни в какие двери не пролезает. Так и будет стоять, пока здание не рухнет. В гражданскую стоял, в революцию выстоял, и сейчас стоит, ни одна бомбёжка его не задела.
– Ты спишь, что ли, мамулечка?
– Не сплю я, некогда мне спать, надо в ремесленное затемно успеть. Ноги, ноги мои подводят, никак не хотят идти… Сил нет, а то бы я бегом побежала, там скоро ужин начнётся. Успеть бы, каши поесть, чаю горячего…
– Ты, видно, проголодалась? Сейчас мы тебя мигом накормим.
– Сделайте доброе дело, дети мои. Покормите свою мамку, может, и жива она останется.
– Ещё бы! Живее всех живых. Ты щей хочешь?
– И щей, и всё, что не доели, всё буду есть.
Как же её звали, чёрненькую, маленькую, одни глаза на лице? А Камой её звали. Вот дружба настоящая, таких друзей теперь нет. Ещё Тоня и Зина неразлучные, всё шепчутся, а потом обязательно Зина говорит, а Тоня молчит.
– Знать бы, где зарыты автоматы для фортепианной механики, мы бы сразу дело наладили, – мечтает Кама.
– Это когда было? Ещё в начале войны. Никого уже и в живых-то нет. Да и где взять древесину? Ель клавиатурную, граб? А чугунные рамы, сукно, целлулоид – кто нам всё это даст? – Зина не верит в затею. Их задача – помогать фронту, делать деревянные противотанковые мины. И футляры для партизанских радиоприемников, и лыжи, и крылья для самолётов. А не пианино. Кому они нужны – в разгар войны?!
Нужны, раз партия и правительство такую задачу ставят. Говорят, что консерваторию открывать собираются, на чём студентам учиться? Любаха уже всё обдумала. Главное, что их взяли на обучение к Дмитрию Кондратьевичу. Ему, их любимому мастеру, поручено восстановить производство пианино. Плохо то, что померли все, кто в начале войны закапывал эти автоматы, а без них механику не сделать. Вернее, сделать можно, но в десять раз дольше и хуже.
– Ничего, Любка, и без автоматов обойдёмся, – заклеив языком самокрутку, произносит Дмитрий Кондратьевич. – Я вас всему научу. Будете сами струны навивать, механику устанавливать и регулировать. Корпуса вы уже делать умеете, фанеровать тоже. Должно у нас получиться не хуже, чем до войны…
До чего крута лестница, как много ступеней! Но сегодня она наконец доберётся до заветной двери. На четвёртый этаж никто не ходит, нет ни сил, ни надобности… А ей надо, ей очень надо! Здесь, за массивной дверью с резными виноградными листьями и птичками поверху, в полутёмном зале затаился, ждёт своего часа старинный чёрный рояль на трёх точёных ногах. О нём все давно забыли. Пылью, как пеплом, подёрнут, но даже отсюда видно: на передней панели тусклым золотом отсвечивает «J. Becker».
Подойти, открыть крышку… Вот они, знаменитые беккеровские клавиши. Дмитрий Кондратьич про них рассказывал. Беккеру удалось сделать так, что сила звука напрямую стала зависеть от силы удара по клавишам. Там должна быть регулировка боковыми деревяшками с винтиками. А самое главное изобретение – проще простого! – струны помещены не сверху доски, как обыкновенно делается, а снизу. Поэтому они встают намертво, и тон получается необыкновенной чистоты, а настройки долго сохраняются. Всё у Беккера придумано просто, такой он был гений. Рояль – это вам не пианино, совсем другой инструмент. Само устройство клавиш, их механика – всё другое. Только на рояле можно много раз и очень быстро нажимать на одну и ту же клавишу: рояльный молоточек может повторно ударять по струне, когда клавиша ещё не успела подняться. Вот Любаха сейчас и проверит…
К примеру, эти ноты 7-й симфонии Шостаковича – недавно Кама их принесла, Любка немного выучила. Надо попробовать… Для начала взять несколько аккордов. Как здорово! Такой глубокий и чистый звук! Как будто рояль только что настроен, а не стоял две зимы без тепла. Вот это инструмент!
Вековечный Вяйнямёйнен
всё на кантеле играет,
всё поет, и всё играет,
и без пения ликует
Звон летит к жилищам лунным,
радость – к солнечным окошкам.
– Читай, читай, доча. Ты читаешь, а я крёстную вспоминаю. Она про всё нам рассказывала: про Похью и Сариолу, Илмаринена и Ловхи. А потом началась война, блокада. Топить было нечем и сожгли нашу родовую книгу.
– Нет, мамуля, не сожгли. Вот она, у меня в руках. Я же тебе её и читаю. Видишь, какая она старая, склеенная вся. Ты же сама нам говорила: берегите, девки, родовую книгу, мы и бережём…
Никто не знает, но Кама уже давно учит её играть. У них дома осталось старое немецкое пианино, не сожгли за две зимы в буржуйке. Мать Камки работала до войны в кинотеатре, создавая фон немым фильмам, а как звуковое кино появилось, стала играть перед сеансом. Она и Каму к музыке приохотила, но та решила стать настройщицей и поступила на «Красный Октябрь» ещё раньше Любахи.
– Ты что, Бологовская, здесь делаешь? Все у станков, норму выполняют, а она за рояль уселась! И кто тебя надоумил сюда забраться? Видно, мастер ваш, Фёдоров, пропаганду разводит, с толку вас, дурочек, сбивает. Фронт от нас ждёт отдачи, самолёты чинить нечем, партизаны без раций пропадают, а она тут на рояльке наигрывает! – в дверях Катя Синицына, секретарь комитета комсомола. За её спиной маячат какие-то тени, проступают серые лица, осуждающе качаются справа налево, слева направо… Так это ребята, чья смена закончилась. Вот среди серого блеснуло светом, остро так и весело – Кама улыбается ободряюще.
И встаёт с поля брани Илмаринен, подбирает обломок меча и давай крошить чудище поганое. Открывает глаза Вяйнямёйнен, ладонью сбивает вороньё, клевавшее его тело, кладёт в сторонку кантеле и достаёт из-за плеча лук, стрелу калёную вкладывает…
– Я задержусь, отработаю, а Дмитрий Кондратьич ни при чём, он меня сюда не посылал. В библиотеке мне подсказали… – голос Любахи пресекается: ведь никаких имён лучше не называть, а она, растяпа…
– Поня-я-ятно, ещё и Вера Гавриловна вредные мечтания подогревает, ей бы в цех, да по двенадцать часов у станка постоять, живо бы про свои буржуйские дела забыла. Чтобы я вашей музыки больше не слышала! Марш за работу!
– Нас взяли пианино собирать, а не мины. Сам директор обещал меня выучить на настройщицу, и план по пианино тоже есть, я знаю!
Как язык у неё поворачивается такое говорить и ещё кому?! Самой Синициной, её все вокруг уважают и боятся, даже Дмитрий Кондратьич тушуется, хоть он вдвое старше. Но серые, усталые лица уже выходят из тумана, проявляются бликами оживших глаз. Дети, маленькие старички и старушки, с интересом смотрят на неё, на Любаху – что-то сейчас будет?
Молвил старый Вяйнямёйнен:
«Не страшны твои угрозы,
ни мечи твои, ни знанья,
ни стремленья, ни хотенья.
Только всё-таки, но всё же
ни за что с тобой не стану
измерять мечей, несчастный,
на клинки смотреть, ничтожный!».
– Я запрещаю тебе, Бологовская, притрагиваться к роялю до конца войны. Иначе поставлю вопрос о твоём членстве в комсомоле. Ну, а с бригадой Фёдорова считай что распрощалась, – Катерина развернулась было, чтобы уйти, но Любаха какой-то неведомой силой подхватилась и через секунду была возле окна. Открыть его, скорее открыть. Чёрт, шпингалет заржавел! Так, на подоконник встать и раму на се-бя! Вот, отлетела она с треском разрываемых многолетних слоёв газет, теперь вторую раму рвануть… Только вниз не смотреть, сделать шаг и…
– Люба, Любочка, ты что? Ты что придумала? Не двигайся, замри, я тебя сейчас сниму. Глупая, я ведь пошутила. Играй, играй, сколько хочешь! Нам настройщицы скоро понадобятся, а ты музыке училась. Садись, поиграй, что ты сейчас играла. Очень правильная музыка, патриотичная. С такой музыкой мы фашистов будем гнать до самого Берлина. Ну, садись за рояль, мы послушаем. Играй, играй…
Это что, мои руки? Откуда коричневые пятна, набухшие вены? Кожа висит как тряпка. Вот до чего голод довёл! Старость пришла к ней, молодой девчонке. Преждевременная старость пришла, и ведь не пожила нисколько…
Только пятнадцать исполнилось, день рождения осенью был. Никогда не отмечали, а тут вдруг решили. Крёстная принесла свой военный паёк, нашлось немного прошлогодней сливянки, присланной ещё батиными сослуживцами на день ангела. Настоящий день рождения, с подарками, патефоном и угощением. Только друзей почти не было, все эвакуировались.
Нинка с Настей сидят нарядные, лучшие платья надели, волосы по-взрослому закололи. Лену́шка достала из шкафа пластинки, и они танцуют, а крёстная рассказывает, как их семья в Карелии раньше жила, мучные склады её отец держал, и хлебом торговали в Петрограде, своя лавка была или даже две. Но это давно, она тогда маленькой девчонкой была. А теперь крёстная вся высохла, и Любаха вся высохла, они обе теперь, как две старухи…
– Я есть хочу, я голодная, принесите мне хоть что-нибудь. Неужели вам не жалко меня? Я столько дней не ела, хоть корочку хлеба!
– Любаха, ты что? Ты ведь недавно обедала. Твоя любимая жареная рыба, с корочкой, как ты хотела, потом овощи со сметаной и кисель из черники. Ты что, забыла, моя дорогая, моя любимая мамочка?
– Придумываете всё, лишь бы экономить на СТАРУХЕ.
– Ты и не старуха вовсе, а мамочка, Любаха, любимая наша мамуся.
– Так принесите мне поесть. Батя, дай своей доченьке поесть чего-нибудь. На язык положить вкусного. Что у тебя есть?
– Всего полно. И овощи, и рыба остались, а я пирог пеку, как ты любишь – с грибами.
– Так, господи же, всё у них есть, а СТАРУХУ голодом морят.
– Несу, несу, мамочка…
***
Приезжая в Ленинград, мама обычно шла к Эльке, своей подруге детства. Всего-то надо было спуститься этажом ниже, нажать на самую верхнюю кнопку звонка и ждать, прислушиваясь к квартирным шорохам. Тётя Эля жила с дядей Васей в узкой маленькой комнатке уютной коммуналки, где соседи больше походили на родственников. С коммуналками всегда так: или одна семья, или змеюшник.
Маруся шла с мамой – а как же иначе? – вдыхала запахи тёти Элиной квартиры (в ИХ квартире пахло совсем по-другому), располагалась в единственном плюшевом кресле и замирала, не выпуская маму из виду. Дядя Вася разливал водочку, настоянную каждый раз иначе: то на апельсиновых корках, то на жгучем красном перце или на калгане – от него получался цвет коньяка. Тётя Эля заводила патефон, и всю квартиру заполнял высокий бас Фёдора Шаляпина: «Из-за острова на стрежень…»
Марусю угощали «хворостом»: его пекла старенькая тёти Элина мама, которая жила на Петроградской, была бодрой и самостоятельной. Маруся её никогда не видела, а знала исключительно по «хворосту», который раз в неделю дядя Вася привозил от тёщи. Сама же тётя Эля готовила редко, доверяя дяде Васе это ответственное дело. Детей у них не было, зато полноправно жил кот, видимо сибирский, большой и пушистый, и звали его Тарзаном. Его миска и горшок стояли тут же в комнате возле двери, но, как ни странно, никаких запахов не было: видимо, всё сразу убиралось.
Маруся прислушивалась к разговорам, но мало что понимала. Самым главным для неё было – ни на минуту не расставаться с мамой. Но она знала, что наступит такой момент, обязательно наступит, всегда наступает: мама остается, а Маруся уходит. Или Маруся остается, а мама, делая вид, что всё в порядке и что она ненадолго, берёт в левую руку большую чёрную сумку с верёвочными ручками, а правой открывает замок двери, роняя через плечо: «Ну, поехала я, а то опоздаю». Маруся стоит молча, следит глазами, как в проёме двери в последний раз возникает мамин профиль, а идущая следом бабушка что-то говорит напоследок, но Маруся уже ничего не слышит: она глохнет от подступивших рыданий.
А пока всё хорошо, и мама рядом, оживлённая, красивая. Маруся ловит каждое её слово, каждое движение артистичных, уверенных рук. Дядя Вася с тётей Элей тоже довольные, шутят и жизненные истории рассказывают, которые Маруся слушает вполуха. Но поневоле что-то запоминается и становится как бы кусочком и её жизни. Особенно все эти «а помнишь?».
– А помнишь, как мы на танцы после войны ходили? – заранее сощурив в усмешке глаза и подняв левую бровь с хохолком, начинает мама.
– Ну как же, всё помню, – чуть картаво рокочет тётя Эля, деликатно откусывая хвостик у шпроты. – Особенно тот раз, когда ты в моих туфлях пошла. У тебя тридцать восьмой, а у меня тридцать шестой, да еще туфли новые, не разношенные. Ох, уж я тебе тогда не позавидовала.
– Так у нас кроме сапог ничего не было, – задним числом оправдывается мама. – Правда, к концу танцев мне казалось, что у меня вместо ног натирающие протезы, как у Федьки-борца из шестой квартиры. А туфельки твои до чего хороши были: чёрненькие, лакированные, с тоненьким ремешком.
– Ну, туфли оказались безнадёжно испорчены, зато у тебя, помнится, тогда отбоя от поклонников не было, ты вся излучала загадочность неземную. Не такая полундра, как обычно. Да и платье моё тебе очень шло, а на мне сидело как на доярке, – тётя Эля любила преуменьшать свои достоинства, на комплимент напрашивалась. Дядю Васю провоцировала. А тому хоть бы что: доярка, так доярка. Ему тётя Эля нравилась в любом виде.
Потом приходила бабушка и забирала Марусю делать уроки, а так не хотелось уходить! Ну ещё полчасика, ну, мама, скажи, что мы вместе скоро придём… Тут мама поддерживала бабушку, обещая Марусе, что не задержится надолго. Но Маруся ложилась спать, а мамы всё не было. Бабушка ходила, поджав губы, и разговаривала сама с собой, до Маруси доносились только обрывки: «Будут гудеть до утра… Ребёнком прикрывается, а сама… Вот придёт, я вопрос ребром…»
Но утром всё было тихо, мама сидела за столом, а бабушка хлопотала возле неё: «Может, за кефиром сбегать?» А мама пила чай и подсчитывала, когда ей нужно выходить из дома, чтобы не опоздать на электричку. Бабушка то и дело принималась тихонько увещевать маму: «Зачем ты к ним ходишь? Ты ведь знаешь, что ей пить нельзя, она в психушке лежала, из петли вынимали. И как её Васька терпит? Давно бы ушёл к своему ребёнку, от этой-то ждать нечего». Маруся понимала, что разговор идёт про тётю Элю. Бабушка её явно не любила, и каждый приезд мамы с хождением «в гости» вызывал у неё молчаливое порицание. Только на другой день, воспользовавшись маминым «недомоганием», она позволяла себе в очередной раз устроить тихий разнос тёте Эле. Марусе было обидно: тётя Эля с дядей Васей ей очень нравились, и никогда ничего плохого о них она не слышала – ведь всё же на одной лестнице жили. А главное – мама в такие минуты поругания молчала и не стремилась защитить свою подругу.