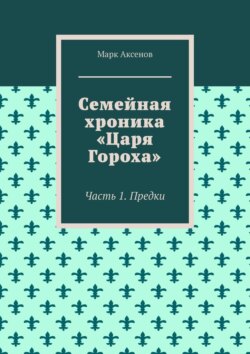Читать книгу Семейная хроника «Царя Гороха». Часть 1. Предки - Марк Аксенов - Страница 6
Глава первая. Дед Иван
Красноармеец Иван Горохов
ОглавлениеСогласно сохранившемуся Военному билету, мой дед был призван на действительную службу в начале марта тысяча девятьсот двадцатого года. В числе прочих новобранцев Иван Горохов, которому в то время было 18 лет, проходил воинскую подготовку в Москве на Ходынском поле. Дед смеялся, рассказывая, как для соблюдения единообразия формы им всем за отсутствием сапог выдали лапти. Дело в том, что дед в лаптях практически никогда не ходил. Хоть он родился и жил в деревне, но работал, как и все плотники во Владимирской области, «в отходе» или, как я уже говорил, занимался «отхожим промыслом». «ОтходнЫе» считали себя почти городскими и ходили исключительно в ботинках. На Ходынке пришлось «переучиваться» на лапти и онучи. Готовили новобранцев якобы к отправке на Кавказ. Обман раскрылся уже по пути на фронт. Новобранцы, те, что были родом из Смоленской области, вдруг увидели родные места. Их небольших знаний географии было достаточно, чтобы понять, что везут их не на юг, а на запад. Кое-кто из них выпрыгнул из вагонов и подался домой. Остальные оказались на территории Западной Белоруссии, где в то время стремительно развивались события советско-польской войны.
Причина конфликта состояла в том, что после поражения Германии в Первой мировой Советское руководство отменило Брестский мир и Красной Армии был дан приказ занять отданные немцам по условиям этого позорного мира западные области России, включая западные части Белоруссии, Украины и Прибалтики. Однако, Польша также претендовала на эти земли. Красная Армия противостояла польским войскам на двух фронтах – на Западном под руководством Тухачевского и Юго-Западном под руководством Егорова. Здесь основной силой была Первая конная армия Буденного. После успешных действий будёновцев на Украине в атаку перешли и войска Тухачевского. Поляки отступали в панике, впрочем, не забывая при этом взрывать за собой мосты и железнодорожные пути. В результате, передовые дивизии Тухачевского, почти подойдя в августе 1920 года к Варшаве, оказались так сильно оторваны от своих тылов, что положение их сделалось не менее рискованным, чем положение поляков, защищавших Варшаву. Тухачевский, правда, ожидал, что, согласно общему плану компании, его фланги поддержит с юга Первая конная. Однако товарищи Ворошилов и Буденный, всячески поддерживаемые товарищем Сталиным, не торопились это делать. «С какой стати? Чтобы этот барчук Тухачевский, триумфально вошел в Варшаву? А они – где-то сбоку? Нет уж, кукиш вам с маслом! Чай, мы сами с усами!» Не ручаюсь за точность выражений – думаю, что у бывшего рабочего Ворошилова и бывшего драгуна царской армии Буденного были аргументы «покрепше» моих – но мотив их поведения, по свидетельствам историков был именно таким. И вот вместо того, чтобы помогать Тухачевскому взять Варшаву, они решили сами чего-нибудь «взять». Рядом был богатый польский город Львов, который показался им легкой добычей. Однако, сколько они ни старались, взять Львов не удавалось. Главком Каменев – тоже, кстати, из «бывших» – кипел от негодования, слал из Москвы грозные приказы! В конце концов переподчинил все войска Юго-Западного фронта непосредственно Тухачевскому, который тоже приказывал поддержать наступление на Варшаву. Бесполезно! Очень уж хотелось самим взять Львов. А помогать, и, тем более, подчиняться Тухачевскому совсем не хотелось.
Тем временем прибывшие на помощь Пилсудскому английские и французские генералы быстро сообразили, что к чему, и организовали энергичные удары с южного направления по рыхлым, растянутым флангам и тылам Красной армии. Из Франции подтянулись сформированные там из пленных поляков соединения в количестве 70 тысяч штыков. И, когда, наконец, Первая конная, так и не взяв Львов, ринулась на помощь Тухачевскому, ее встретили уже хорошо вооруженные, свежие силы противника. Которого, кстати, поддерживали даже прибывшие из Америки бомбардировщики.
Что же касается нашего вооружения, то по рассказам деда поначалу, когда их привезли на фронт, одна винтовка была, хорошо если на троих, а то и на пятерых. В свете этого как-то двусмысленно смотрится плакат Окон РОСТА того времени, а, вернее сказать, стих Маяковского, помещенный на нём.
«Крепнет коммуна под пуль роем.
Товарищи, под винтовкой силы утроим»
То бишь, всё, как в жизни – «винтовка» в единственном числе, а «товарищей», которые и так уже во множественном, предлагается ещё и утроить.
Из дедовской Книжки красноармейца и исторических документов мне удалось узнать, что 57-я стрелковая дивизия, в которой служил красноармеец Горохов входила в состав 16-й армии Западного фронта. Во время Варшавской операции в начале августа двадцатого года 16-я армия форсировала Западный Буг и продвинулась к Висле, выйдя на подступы к Варшаве. Когда же в середине августа началось контрнаступление польской армии, части 16-й армии вынуждены были отступать с тяжелыми арьергардными боями.
Видимо, об этом периоде дед вспоминал, как о времени разброда и неразберихи, когда части Красной армии отступали и «по лесам бегали и прятались от начальства дезертиры». И вот однажды, во время ночного привала в каком-то селе около тысячи измотанных, плохо вооруженных, и дезорганизованных красноармейцев, и в их числе мой дед, были взяты в плен эскадроном польских кавалеристов, многие из которых были вооружены «ручными пулеметами». Так дед называл еще диковинное в те времена оружие. Он говорил, что это были не «шмайссеры» или ППШ, которые появились позже, во время Второй мировой, а какие-то небольшие автоматы с деревянными прикладами и рукоятками. Скорее всего, на вооружении у поляков оказался, «маузер», деревянная кобура которого могла использоваться в качестве приклада. Обычные «маузеры» стреляли одиночными выстрелами, но была модификация, позволявшая стрелять и очередями.
Польский плен
В декабре 1968 года я готовился к поездке в Польскую Народную Республику, – так в то время называлась Польша, – в составе студенческой делегации нашего института. Современным молодым людям, которые к двадцати годам уже успевают посмотреть полмира, трудно понять мои ощущения и надежды, связанные с предстоявшей поездкой, которая должна была стать для меня первым знакомством с заграницей. И я загодя стал изучать польский язык и исподволь знакомиться с польской историей и культурой. Кстати, затем это вошло у меня в привычку. В какую бы страну я не собирался, я обязательно хотя бы немного учил её язык.
Но вернемся в декабрь 1968-го. Увидев у меня на столе польский словарь, дед саркастически, как он умел, ухмыльнулся и спросил
– К полякам собрался?
– Да, а что? Ты тоже туда ездил?
– Да уж, пришлось…
И вот тогда дед рассказал, как он оказался в Польше. Поскольку дед застал меня за изучением языка, я спросил, помнит ли он что-нибудь по-польски. И он, не задумываясь, произнес наиболее запавшее в память. Это не было какое-нибудь «Проше пана» (Прошу вас) или «Пшепрашам» (Извините). Нет! Первое что дед выпалил без запинки, было «Пщякрев!» (Psiakrew!). Перевод я легко отыскал в словаре – это польское ругательство, вполне безобидное в сравнении с русским матом, переводится, как «Собачья кровь». Именно так «ласково» обращались к русским военнопленным охранники в польском концлагере, куда дед попал. А вот вторая фраза заставила меня провести целое лингвистическое расследование.
«Двадешти пенти в дуб». Дед объяснил, что это означало «двадцать пять ударов розгами». Такое наказание полагалось пленным за крупную провинность. В особенности за попытку побега, коих у деда было три. Но рядом с лагерем не было лесов, и единственным местом, где можно было временно укрыться от взгляда часовых, были поля подсолнуха. Туда и бежали. Но это не помогало. Охранники с собаками настигали беглецов, и, схватив за волосы, волокли обратно в лагерь. Дед в юности был рыжим чубатым парнем. Из польского плена он вернулся практически лысым. Ну а после побега он, естественно, получал свои законные «Двадешти пенти в дуб».
Ну двадцать пять – это понятно. Правильно по-польски это звучит приблизительно так – Двадещчи пенчи (Dwadziesci pieci). А вот причем тут дуб, дед объяснить не смог, а может быть, не захотел. Словарь мне ничем не помог. А помог русско-польский анекдот, который рассказал мне однокурсник, тоже собиравшийся в ПНР.
Советско-польская граница. Зима, ночь, мороз. Постовым, – что нашему, что поляку, – стоять холодно и скучно. И вот через границу налаживается «культурный» диалог.
Наш пограничник протяжно и громко кричит – А как по-польски будет «жо-о-о-па»?
Поляк отвечает – Ду-у-у-па!
Наш, подумав, одобрительно кричит в ответ – Тоже краси-и-и-во!
Зима, ночь, мороз и… тоска по прекрасному.
Итак, слова «в дупу» – а не в «дуб», как запомнил дед, – означали место, куда попадали те самые двадцать пять ударов розгами.
Недавно польский премьер-министр возмутился, когда какой-то американский политик назвал Освенцим и Майданек «польскими концлагерями». И правильно возмутился. Потому что это были немецкие концлагеря на территории Польши, оккупированной фашистской Германией.
Так вот, для молодого читателя, в голове которого, вполне возможно, исторические знания спутаны, как овощи в борще, я специально уточняю, что я сейчас рассказываю не о гитлеровских концлагерях времён Второй мировой войны 1939—45 годов, а именно о польских концлагерях для советских военнопленных в начале двадцатых годов ХХ века.
Конечно, этим польским лагерям было далеко до фашистских фабрик смерти с их газовыми камерами и крематориями. Но и в них жизнь была не сахар. Пленные содержались в нечеловеческих условиях. Антисанитария, отсутствие отхожих мест, голод, холод, издевательство охранников – всё это приводило к болезням и смертям.
Я же расскажу то, что слышал сам от моего деда. Однажды он поинтересовался, будет ли проезжать наш поезд небольшой городок Седльце (Siedlce).
Я, посмотрев на карту, увидел, что город Седльце действительно находится на полпути к Варшаве, и спросил:
– А что? Ты там бывал?
– Да нет, – сказал он после небольшого раздумья, – мне повезло.
Увидев, как я удивился, дед рассказал, что, когда в конце советско-польской войны стороны договорились об обмене пленными, поляки стали переводить военнопленных поближе к границе. Переводили только тех, кто мог идти сам. А дед в это время заболел брюшным тифом и его в числе прочих заболевших отправили в лагерный госпиталь. После выздоровления дед какое-то время еще находился в лагере и даже успел поработать там и плотником, и сапожником.
Так вот, уже в России дед встретил своих солагерников, и они поведали ему такую историю. Пленным по пути в Белосток пришлось переночевать в городке Седльце. Дело было ранней весной. Ночью ещё стояли морозы. Военнопленных загнали в бывшую конюшню и уложили спать на каменном полу. Температура от наружной практически не отличалась. Наутро половина красноармейцев – это несколько сотен человек (за точные цифры, разумеется, не ручаюсь) – так и осталась лежать. Многие из них скончались.
Моя поездка в ПНР в 1968 году не состоялась. И это уже тема для другого рассказа. Но лет через десять мне всё-таки удалось поехать туда по турпутёвке. Станцию Седльце мы проезжали ранним утром. Уютный городок, припорошенный снегом на фоне серого зимнего неба. В некоторых окнах уже горит свет, кому-то рано вставать на работу. Вот наполовину занавешенное окно, лампа с красивым бежевым абажуром, женщина в халате с кофейником в руке подходит к столу… И снова – спящие окна, темные дома, и вдруг над ними – две спаренные бетонные стелы, увенчанные таким же серым бетонным шаром, на макушке которого возвышается крест.
– Это у них костел такой, современный, – сказал мой сосед по купе, – поляки вообще самая набожная, католическая нация в мире.
Ехать было еще долго, и я рассказал попутчику историю о моем неверующем деде и о «набожных» польских конвоирах, расположивших сотни русских пленных на последний вечный ночлег.
Концлагеря, где в начале двадцатых содержались пленные красноармейцы, достались полякам от австрийцев, которые построили их еще в первую мировую. В Польше их было довольно много. Дед не назвал конкретно, в каком из них он сидел, однако в его рассказах часто мелькало слово Рембертов. Это – пригород Варшавы. И то же название носил располагавшийся там концлагерь. Там, по его рассказам, он как раз и работал сапожником. В концлагерях существовали разные мастерские.
В марте двадцать первого Советская Россия подписала с Польшей Рижский мирный договор, не менее позорный для нас, чем Брестский мир. Согласно этому договору, граница между двумя странами проходила в тридцати километрах западнее Минска. Вплоть до ноября происходил обмен пленными. Поскольку дед какое-то время проболел тифом, можно предположить, что на Родину он вернулся не раньше октября – ноября 1921 года. А значит, в плену он пробыл чуть больше года. Обстоятельства своего возвращения на Родину дед не помнил – незадолго перед этим он опять заболел, уже крупозным воспалением легких, и из вагона его выгружали в беспамятном состоянии на носилках.
Катынь и Анти-Катынь
Тема пленных красноармейцев в Польше уже довольно давно, а сейчас особенно, используется в русско-польской полемике, как аргумент против катынской трагедии. Появилось даже слово такое «Анти-Катынь». Во время моих поездок в Польшу в 70-е, 80-е годы, если кто-то из поляков заводил разговор о Катыни, я в ответ рассказывал о злоключениях своего деда в польском плену. Чем, кстати, немало удивлял собеседников, ибо ни в ПНР, ни у нас эта тема не освещалась – как никак – «дружба народов». Можно ли сравнивать расстрел 14 тысяч польских офицеров в Катыни по приказу НКВД со смертью 20 тысяч красноармейцев в польском плену?
Конечно, в словах польских историков есть доля правды. Никто в польском руководстве не отдавал прямых приказов на уничтожение пленных. Но, согласитесь, что не могут несколько тысяч молодых здоровых мужиков (а других в армию не брали) просто так взять и умереть в течение одного года. Можно было бы не верить рассказу маршала Воронова, который в двадцатом году, будучи рядовым, тоже побывал в плену у поляков. Но свидетельств о нечеловеческих условиях содержания русских пленных хватает и в польских источниках. И в этой связи, вот какой вопрос хотелось бы задать польским историкам и политикам. А, если бы польских пленных офицеров не расстреляли, а просто положили бы изможденных, голодных, больных ночевать зимой в неотапливаемом сарае на голом каменном полу при наружной температуре минус пять-семь градусов, это бы уже не считалось убийством? И вы, дорогие друзья, уже не так бы о них скорбели? Ну, заболели и умерли. С кем не бывает?
Историческая память
Вообще всё, что сейчас происходит в наших отношениях с Польшей мне, как бывшему советскому человеку, кажется дурдомом – все эти сносы советских памятников, осквернения могил наших солдат, освободивших Польшу от фашистов… У них даже есть Институт Исторической памяти, если не ошибаюсь. О необходимости сохранения исторической памяти говорят и у нас. До последнего времени и я так считал. А сейчас вдруг подумал – а так ли уж нужно помнить всё подряд – и плохое и хорошее, что было между народами? Всё зависит от того, чего мы хотим – войны или мира? А если мы, что более разумно, хотим мира с нашими соседями, то неплохо бы в этом Институте исторической памяти иметь такой небольшой факультет «исторического забвения и взаимного прощения». Интересно, что простые люди, в отличие от политиков, прекрасно это понимают. Сколько наших солдат, оказавшись в 1945 году в послевоенной Европе влюблялись в полек, чешек, в мадьярок, и даже в немок, отцы и братья которых воевали против нас.
Да вот мой дед, простой русский мужик, рассказывая о своих злоключениях в Польше, даже и в мыслях не имел как-то настраивать меня против поляков. Знал, видимо, что среди них немало хороших людей, которые наверняка чем-то помогали ему в те нелегкие годы. Он не пытался заразить меня бациллой ненависти, не желал из-за собственных обид разрушать тот мир, в котором мы все жили, в котором царила настоящая дружба народов. То, что эта дружба была не только на бумаге, я знаю по собственному опыту. Кто в те годы в СССР не любил польскую музыку – Анна Герман, Марыля Родович, «Червонэ гитары», «Скальды», «Два плюс еден»? А как в Польше принимали наших артистов?! А дружба и творческое сотрудничество писателей, поэтов, Булата Окуджавы и Агнешки Осецкой…
Я до сих пор люблю польскую культуру. Я неделями жил в семьях моих польских друзей в Варшаве и под Лодзью. А потом они жили у меня в гостях в Москве. Польский язык в то время я выучил до такой степени, что приходилось иногда случайным польским собеседникам показывать мой «молоткастый-серпастый», чтобы доказать, что я не поляк.
Господи! Какой прекрасной была эта жизнь в дружбе, в радости узнавания других стран, культур, языков, традиций! И это ведь тоже память, которая теперь уже стала исторической. А память о плохом? Да, конечно, она была. Разговоры о Катыни, о Варшавском восстании нет, нет, да возникали. Но, так сказать, под сурдинку. Это никогда не было главной темой нашего общения. Как и положено в приличном обществе. Ну не будете же вы, придя в гости к соседу, который радушно вас принимает, рассказывать ему, каким дураком и негодяем был его прадедушка! Какое вам, в сущности, дело до него? Вам же не с ним жить и общаться.
Мне кажется, историческая память – это, как аптечка, которая содержит и лекарства, и яды. То и другое полезно в разумных дозах. Но если вы не хотите отравить мир, в котором живете, держите яды под замком и подальше от неразумных детей. Ибо, как сказано в писании, не ведают, что творят…