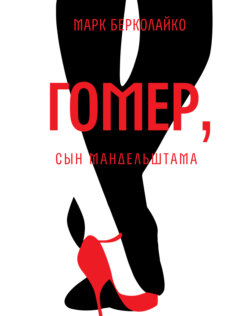Читать книгу Гомер, сын Мандельштама - Марк Берколайко - Страница 4
Гомер, сын Мандельштама
Глава первая
ОглавлениеРедко когда любящие друг друга сущности встречались с таким чувством взаимного раздражения, как мы с Валерием Валерьевичем – осенне-зимними утрами у дверей класса, пахнущего щедро хлорированной уборкой.
Отрабатывая нищенскую свою зарплату, уборщица размашисто проходилась по доске половой тряпкой, и мы долго потом стирали белесые разводы с поверхности, взывавшей к написанию незыблемого и вечного – того, в чем сомнений быть не может. Например: «Коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны». Или: F=γmM/R².
Нас, еще не проснувшихся, раздражало сияющее готовностью к труду лицо Валерия Валерьевича, очень подходящее лицо для директора лучшей школы и лучшего в городе учителя математики и физики, обреченного на кличку Приам. Горжусь, что этот глас судьбы первым услышал я, но, впрочем, все было очевидно: его странную увлеченность «Илиадой» и его манеру называть точки А1, В1, С1 не «А-один», «В-один», «C-один», но исключительно «А-прим», «В-прим», «C-прим» – оставалось соединить.
Раз уж он – Приам, то старший его пасынок, богатырского сложения одноклассник и мой закадычный друг Виктор, стал Гектором. Младший же, смазливый Александр, – Парисом.
Знать Гомера наизусть в наше время нелепо, но так уж получилось, гены так сплелись – есть у меня три мутантных отклонения: недюжинная память, пониженная болевая чувствительность и редкий, почти всегда одинаковый пульс – 47 ударов в минуту. Стало быть, предназначено мне жить долго, все помнить, но боли не чувствовать. Странное сочетание, неисполнимый замысел…
Была еще одна особенность, приобретенная: научился выдерживать гипнотизирующий взгляд Приама. Как-то, в классе пятом, впопыхах назвал достопочтенного наставника Варелием Варельевичем – и минуты две он был недвижен и зловещ, как собственный портрет, освещенный шаровой молнией, но я выдержал, хотя взгляд призывал меня искупить вину смертью (желательно, героической) на ахейских копьях и мечах, за стенами школы, этой нашей неприступной Трои.
Однажды, лет тридцать с лишним назад, попали мы с Гектором в незнакомую компанию интеллектуалов, декламировавших Мандельштама. После каждой декламации следовала благоговейная цезура, затем – благоговейный же комментарий. Пришел черед обязательного: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…».
– Как он любил эту недосказанность! – вздохнул самый восторженный. – «Я список кораблей прочел до середины…» Непонятно и прекрасно!
– Ничего непонятного! – возразил я. – Не более чем признание честного человека. Всего в «Илиаде» двадцать четыре песни, каждая как-нибудь называется. Например, вторая: «Сон. Беотия, или Перечень кораблей». Поэт не смог осилить ее дальше середины – и не мудрено, этакую-то галиматью!
Цезура затянулась.
– Вы, собственно, кто по специальности?
– Патологоанатом.
– Это чувствуется! Так препарировать поэзию!
– Любителей поэзии я, поверьте, препарирую еще лучше!..
– Гомер! – посетовал Гектор, когда, пробившись через когорту чрезмерно возмущенных, мы оказались на улице. – Какого хрена ты задирался? Двух долбаков, венеролога и трупореза, допустили посидеть, помолчать, приобщиться к мировой культуре… А ты?! Нет приклеиться к шатенке, которая слева, так полез в бутылку со своим пульсом сорок семь и весом «пера»!
Не мог не задираться! Они читали Мандельштама, как пошлые ахеяне, – не для того, чтобы наполнить мир хорошими стихами, а чтобы шатенка дала. Не мог, потому что неприязнь к ахейцам Приам передал именно мне.
«Тр-р-роянцы, запевай!» – командовал он на вылазках, у жарких костров, и мы запевали: «Когда внезапно возникает еще неясный голос труб…»
«Пр-р-роменаду пр-р-редаетесь, ахеяне?!» – каркал он, застукав нас праздношатающимися по проспекту, и это уничижительное «ахеяне» клеймило несмываемо, оно навсегда отлучало от всего талантливого, вышвыривало в сумеречный мир посредственностей.
Приам любил нас как своих посланцев в 1980-е, в начало коммунистической эры, которая непременно взрастет из такого зримого научного первенства замечательной страны. Потому и отвращался от нашего раздолбайства, царапавшего его в дни фронтальных опросов и контрольных работ; от обреченности, с которой осенне-зимними, угрюмыми утрами мы тянулись в класс, пахнущий щедро хлорированной уборкой.
А вот папа римский, узнав о решимости построить через восемнадцать лет коммунизм, вздохнул: «Фатальная ошибка! Нельзя указывать точную дату Второго пришествия».
Он преподавал математику и физику, а жена его, Галина Леонидовна, была словесницей. Однако семья их сложилась не как школьная: бездетный строевик лишился долго болевшей жены, а муж Г. Л., в непривычно сильный мороз поехал на охоту привычно пьяным, заблудился и оледенел. Прошло отпущенное на траур время, и добровольные свахи подсуетились, справедливо рассудив, что связывать судьбы внутри Богом забытого военного городка надо быстро и напористо.
И вдруг оказалось, что брак умницы-майора и уютной училки был и вправду задуман на небесах, что небесный ЗАГС не зря отозвал наверх Приамову жену и забулдыжного отца Гектора и Париса. Пацаны всегда воспринимали Приама как кровного и родного, а уж на Г. Л. он надышаться не мог, оттого и рухнула его военная карьера – об этом, правда, я узнал гораздо позже, когда ухаживал за ними, умирающими от лейкемии.
– То-то и оно, Гошенька, – рассказывала она тихо, чтоб не разбудить задремавшего в соседней комнате мужа, – это ведь из-за меня, дуры, Валеру в запас отправили.
Перед самым Днем Советской Армии в части околачивался проверяющий из Москвы, «паркетный» полковник, из-за нелетной погоды опаздывающий на пьянку в Минобороны, а потому заявившийся на местный хлебосольный банкет.
– Сидел, конечно, во главе стола, рядом с командиром, – частила она, – пил-жрал за троих и на женщин так поглядывал… будто дворовую девку выбирал, постель ему на ночь расстелить!
Те полковые дамы, что обычно доступны не только взору, были как на подбор в прекрасной форме, могли в любой ответственный момент вывалить обильный бюст и сказать подобно героине феллиниевского «Амаркорда»: «Угощайтесь!» Но то ли товарища полковника сбило с толку разнообразие возможного угощения, то ли, наоборот, оно показалось ему однообразным, поскольку такие амаркордовские и в Москве надоели – пригласил он на медленный фокстрот Г. Л., нашептал кучу сальностей, а на последних па молодецки потрепал за задницу.
– Было б что трепать! – сердилась самокритичная словесница. – И я, взрослая баба, завелась, как тургеневская девица!
Как все же – от поколения к поколению – меняется восприятие одного и того же набора слов! Для Г. Л. решающим было противопоставление «взрослая баба» – «тургеневская девица»; для меня – слово «завелась»… а дальше, как водится, пыхтенье и стоны в укромном уголке… Но ничего подобного: дала пощечину, крепкую, на добрую память. Это углядел Приам. Подойдя к полковнику, загипнотизировал его остановившимся взглядом и принялся размеренно отвешивать оплеухи, от которых «проверяющая» голова перекладывалась туда и обратно с амплитудой хорошего маятника. А еще и вопрошал: «Будем стр-р-еляться или встанете на колени?!»
– Так ведь встал же, Гошенька! Встал, подлец, перед моим сумасшедшим Валерой!
Скандал замяли, Приама уволили якобы по болезни, но с лестной характеристикой. Семья переехала в Недогонеж, супруги учительствовали в рядовой школе нашего района, потом В. В. стал директором – и потащил ее в гору по всем учебным, олимпиадным и спортивным показателям.