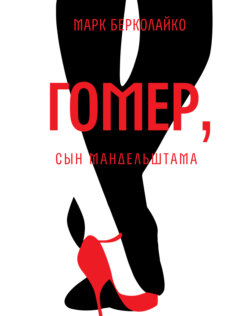Читать книгу Гомер, сын Мандельштама - Марк Берколайко - Страница 7
Гомер, сын Мандельштама
Глава четвертая
ОглавлениеЗвучит по-идиотски, но физиком я не стал в два этапа.
Первый начался с того, что полетела в тартарары программа, начертанная для меня Приамом. Чуть было не отстучал «предначертанная», во всяком случае, будущее захоронение моих останков у Кремлевской стены описывалось с такой литургической мощью, что становилось ясно: ему очень хочется не только дожить до этого далекого дня, но и активно участвовать в траурной церемонии. А уж о вручении мне Нобелевки и говорить нечего. После каждой моей победы на олимпиаде, абзац из будущей лауреатской речи Игоря Меркушева, посвященный первому учителю физики, наверняка становился в голове Приама все более одическим.
Но начаться должно было (по его замыслу) с поступления в физхим, а от этого я отбрыкивался. Слов нет, физиков там выпекают добротно – но где мужали титаны? где можно было дышать тем воздухом, что кружил гениальные головы Иоффе, Капицы, Курчатова, Семенова, Зельдовича, Тамма? Только в Ленинградском физтехе, расположенном на улице Политехнической, – стало быть, учиться надо в Ленинградском политехе, чтобы потом просто «перейти улицу». А физхим – слишком молодая пекарня, нет еще в ней рецептов для замеса настоящего теста, нет тех дрожжей, на которых одаренность восходит талантом, а талант – гениальностью.
Примерно так я говорил Приаму на выпускном; может быть, не так пышно, но уж точно – не менее пылко.
Однако была еще одна причина, возникшая в августе 63-го – Господи! Уже сорок четыре года тому! – по которой мне хотелось учиться именно в Питере; ее я Приаму не назвал.
А называлась причина красиво: Нина Трифель.
Тем летом я почти месяц жил в Ленинграде у тетушки. Поездка была мною заработана – весь год натаскивал двух восьмиклассников, родители коих из экономии наняли репетитором не учителя, не студента даже, но всего лишь отличника классом постарше.
Тетушкина разделенная перегородкой комната располагалась на улице Воинова (бывшая и теперешняя Шпалерная) в доме № 6 – почти у Литейного проспекта и Литейного моста; точный адрес для дальнейшего немаловажен. Вторым домом стал Эрмитаж, третьим – Русский музей, а еще и пригороды… Но подступала осень – и однажды утром я разлегся на верхней полке плацкартного вагона в скором, проходящем через близкую к Недогонежу станцию Зайки, с намерением спускаться разве что в туалет. Полдюжины пирожков с капустой и две бутылки лимонада вполне могли обеспечить максимальный приток крови к загудевшим напоследок ногам и минимальный – к опустевшей от недосыпа голове. Постельное белье не взял, не на что было; матрас не раскинул из брезгливости, вместо подушки сгодился толстый ленинградский телефонный справочник.
Намертво уснул в полупустом еще вагоне, а проснулся, когда солнце вовсю било в запыленное окно. Но разбудило меня не оно, а внимательный взгляд с нижней полки напротив.
«О рыцарь, – перефразируя Пушкина, – то была “причина”!»
Никогда не встречал очевидную телесность, распределенную так соразмерно.
Не «фигурка» – ничего миниатюрного.
Но и не «фигура» – никакой корреляции с фырчащим «ф» и угрюмым «гур»; не скажешь же «фигура» про скульптуру Кановы!
Та самая мандельштамовская недосказанность, когда совершенство – всего лишь покров тайны.
А лицо ее… Нет, сначала о другом…
Лет с тринадцати в моих пылких снах перебывали все соседки, учительницы, тетенька-отоларинголог, так и не откинувшая блестящее зеркальце-полумаску, и даже мать – привет Вам, геноссе Зигмунд! Они принимали самые призывные, как мне представлялось, позы, шептали самые откровенные, как мне казалось, непотребства, но дальше дело не шло: я извергался, и извержения были трусливым бегством от неизвестного и страшного «а потом»… Но все прошлые и будущие такие сны сразу и навсегда аннигилировали при виде этого лица, как антиматерия аннигилирует при столкновении с материей нашего мира. Я не стану описывать черты, скажу лишь, что пикантной женственности Татьяны Лавровой в ней было вдосталь, в избытке, через край.
В проходе и на других нижних полках стояли и сидели шестеро парней, мужчин, мужиков северо-западного, центрально-черноземного и закавказского обликов, – и похоже это было на кольцо разномастных котов вокруг неприступной кошечки, высокомерно изучающей небо – в данном случае проснувшегося меня.
– Вам не жестко?
– Нет. Хоть не пла́чу и не пою, но соответствую зеленому вагону.
– Значит, я, отдав рубль за постель, оказалась в желтом или синем?
– Значит! – вроде бы отрезал, но ликуя, потому что состоялся, спасибо Блоку, обмен паролем и отзывом.
«Котам» это было невдомек: посыпались шуточки, что такому «скелету» положено лежать на жестком; утомительно однообразные, они отличались только фонетически, но «кошечка» осталась равнодушной к мартовским завываниям, прикидывались ли они скобарским рассыпчатым говорком, черноземной куражливостью или покровительственной кавказской гортанностью.