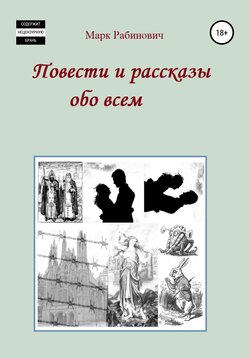Читать книгу Повести и рассказы обо всем - Марк Рабинович - Страница 9
Перпендикулярное время
Ася
ОглавлениеВ палату вошли Жилистый с Рыхлым. Жилистый принес два бумажных стаканчика с очень вкусным черным кофе. Один он предложил ей, и Ася с наслаждением стала пить горький ароматный напиток, хотя обычно предпочитала латте. Рыхлый жевал какой-то подозрительный сэндвич и выжидающе смотрел на нее. Дожевав, он смахнул салфеткой крошки со рта и немедленно заявил:
–– Ну, посмотрим что тут у нас…
Подойдя к груде оборудования в углу, он долго возился с ноутбуком, подключая его то там, то здесь, что-то рассматривал, но, похоже, ничего обнадеживающего не увидел. Тогда он пнул ногой один из безвинных приборов и произнес нечто, что на русский Ася перевела бы сакраментальной фразой:
–– Мы пойдем другим путем!
Но другого пути у него под рукой не оказалось и он плюхнулся в кресло, одновременно шаря рукой по больничной тумбочке. Наверное, ищет еще один сэндвич, злорадно подумала Ася. Жилистый все время украдкой поглядывал на нее, как будто ждал чего-то, и она сообразила, что занятая матерью и размышлениями о Мишке и Соне, не задала подозрительной парочке никаких вопросов, как будто ее не интересовали ни другие миры, ни таинственные предсказания. Ей и на самом деле было не слишком интересно, но от нее явно ждали вопросов и она решила не разочаровывать Жилистого, который не сделал ей ничего плохого и даже напоил вкусным кофе. Поэтому, допив кофе, она поинтересовалась механизмом предсказаний. Ответил ей Рыхлый. Не найдя второго сэндвича, и развалившись в кресле, он упоенно вещал:
–– Видите ли Ася, там, в невидимых мирах, время течет по своему…
Наверное, после первого сэндвича он расслабился и теперь не злоупотреблял терминологией. По крайней мере сейчас она понимала почти все из некогда заумных объяснений Рыхлого. Он рассказывал, например, что время в иных мирах может быть обратным нашему, так что их "потом" это наше "прежде" и наоборот. У нее всегда было больное воображение и Ася живо представила себе “потустороннего” старика, становящегося молодым человеком, потом ребенком и исчезающего, наконец, в материнском чреве. Увидев, что она улыбается, Рыхлый ехидно заявил:
–– Но это, Асенька, лишь примитивная модель, для чайников.
Оказалось, что его команда ученых разработала несколько возможных моделей течения времени в этих потусторонних сферах. Было там и медленное время, когда у нас проходили года, а у них мгновения. Было там и быстрое время, когда каждая наша секунда соответствовала их векам. Но больше всего ее заинтересовала "перпендикулярное" время. Этим термином Рыхлый назвал такую модель, в которой для наблюдателя в нашем мире там. за границей измеряемого, все происходило одновременно, потому что течение их времени было "ортогонально" развернуто по отношению к нашему. Этого она уже понять никак не могла, а Рыхлый продолжал вещать о времени, закрученном в четырехмерную спираль, и о времени, разбитом на дискретные фрагменты и о прочем, что она уже не слушала. Причем, по его разумению, все это невероятные миры могли существовать одновременно и для каждого из них у него была разработана математическая модель с очень точными формулами. Тут вмешался Жилистый, заметивший что его напарник слишком уж глубоко залез в математические дебри. Прервав его возгласом:
–– Остынь, Попай!
…он напомнил Асе про пророков и предсказателей. Если верить его объяснению, то провидцы пользовались информацией из других миров, где будущее уже свершилось, хотя наше прошлое там возможно еще не начиналось. Одного он только не мог сказать – в каком из этих миров пребывал сейчас Мишка и как его оттуда вернуть. А ведь ее интересовало только это, а отнюдь не какие-то там "диагональные" миры. Поэтому именно на этот вопрос она потребовала ответа. На это Жилистый заявил, что Мишка никуда не делся, потому что материальное тело переслать между мирами невозможно как в силу разности физических законов так и из-за энергетического барьера. Насчет последнего он пояснил, что связь между мирами требует неимоверных затрат энергии и непонятно, что это за энергия и откуда она берется. Но ведь как-то Кассандра и прочие заглянули туда, удивилась она, иначе откуда у них неизвестные им до тех пор сведения? При этих ее словах Рыхлый возмущено хмыкнул, а Жилистый грустно процитировал:
–– Есть многое на свете, друг Попай, что нашей философии не снилось!
… и, повернувшись к ней, признался:
–– На самом деле, мы просто ни хрена не знаем!
А она, кажется, знала… Еще только услышав про гигантские уровни неизвестных науке энергий, она сразу подумала про Кассандру. Что двигало ей, этой молодой девчонкой, одной из множества принцев и принцесс, настроганных любвеобильным троянским царем от многочисленных жен. Что заставило ее бросить вызов богам в заведомо безнадежной схватке за участь родного города?
… Город превращался в дым и гарь: горело все что могло гореть и даже то что гореть не могло. Казалось, что горят черепицы, упавшие с крыш обрушившихся храмов, горят даже камни полуразрушенных, некогда казавшихся непобедимыми стен. Немногие ахейцы пробирались по заваленным мусором и трупами улицам, опасаясь огня и тщетно пытаясь найти еще незраграбленный дом. Со стен сбрасывали тела последних защитников города и ненужных уже женщин, которыми успели вдоволь попользоваться бойцы Агамемнона и Одиссея. Детей угоняли в рабство длинной, извивающейся колонной через единственные сохранившиеся городские ворота. Детей было много, но не все дойдут до кораблей и не многим удастся выжить в тяжелом морском пути до далеких Киклад, Пелопоннеса и Итаки. Но малолетние рабы так дешевы сегодня, а цены на еду для рабов и лошадей в разоренной войной Троаде взлетели вверх, и поэтому маленькие неподвижные тела уже украшали придорожные арыки вдоль Портовой дороги. Видеть это было нестерпимо и она мечтала выколоть себе глаза, но это было невозможно, потому что руки у нее были связаны чьим-то ремешком от сандалия. Наспех изнасилованная нетерпеливым главнокомандующим, она забилась в угол колесницы Агамемнона, смотрела на эту картину невидящими глазами и думала, думала, думала… Она думала только о том, что надо было сделать, чтобы не допустить возникновения этого ужаса. Надо было, наверное, остановить Париса, поджечь его корабль или подослать убийцу к Елене. Но вид радостных, разгоряченных грабежами, кровью и женскими телами данайцев смутил ее. Нет, поняла она, не помогло бы! Эти нашли бы другой предлог чтобы дорваться до богатств Илиона, чтобы жечь, грабить и насиловать! Тогда, подумала она, надо было уничтожить их корабли еще в море. И она представила бронированную финикийскую эскадру, нанятую Приамом на последние деньги, представила горящими черные корабли ахейцев, представила Микены, выбирающие нового царя и Пенелопу, закончившую жизнь настоящей, а не соломенной вдовой. Представила она и подслеповатого поэта, благополучно спивающимся в притонах Пирея, потому что его слащавые и скучные стихи не пользуются спросом. Но вокруг нее горели не черные корабли, нет – горела ее Троада. Тогда она бросила свое видение в неясное никуда, туда, где рыжая пятнадцатилетняя девчонка еще сможет найти в себе силы убедить тех, кто не хочет слушать. И тогда, надеялась она, хотя бы там не будет этого смрадного черного дыма, разрушенных стен и детских тел по обочинам дорог…
А что двигало Вольфом Мессингом, местечковым евреем выбравшимся из польских штетлов и ставшим подле сильных мира сего? Для чего он обивал пороги синагог и молил выслушать его тех, кто не готов был выбраться из своего замкнутого мирка и кого ждала либо печь крематория либо топор соседа-католика?
… Их "виллис" стоял просев радиатором в кювет и капитан уже несколько минут, подобно Есенину, обнимал белую польскую березку, доверяя ей остатки своего обеда. Мимо, по шоссе, шла необстрелянная пехота и бойцы в шинелях б/у с заплатами язвили по поводу нетвердого на желудок офицера в фуражке с малиновым околышем. В другое время особист не замедлил бы их приструнить, но сейчас ему было не до того. В Майданеке он поначалу держался стойко, но когда им показали рвы, лицо его позеленело и, к удивлению Вольфа Григорьевича, приобрело человеческие черты, несвойсвенные по его мнению особистам. Сам Мессинг сейчас тоже дышал тяжело, заставляя себя вдыхать свежий воздух. Но июльский воздух пах не цветами и сеном, а гарью и мерзкой, сладковатой сажей, хотя лагерь они оставили далеко позади и это было несомненно лишь игрой воображения. А ведь там в покинутом ими Майданеке остались его отец и братья: либо во рву под немерянными слоями тел, либо пеплом, который выгребли из крематория. Поэтому Мессингу тоже хотелось сейчас обнять березку и биться об нее головой, чтобы заглушить воспоминания. Ведь тогда, перед войной, в мирной и зажиточной польской провинции он не сумел найти верные слова, пусть даже и жестокие, пусть даже и ранящие. Только теперь, после того что он увидел, у него появились эти слова, который могли бы заставить людей проснуться и бежать, бежать. А если бежать было некуда, то можно было взять оружие и умереть на пороге дома, а не в бесконечных, глубоких рвах. Но здесь все уже свершилось, и он сжимал зубы от бессилия. И тогда он отчаянно захотел отправить это знание туда в то непонятное место, где все еще возможно, где кто-то найдет верные слова и где глубокие рвы так и останутся пустыми…
И что, наконец, двигало Мишкой, искавшем Соню Липшиц на далекой улице Маклина? Этого она пока не знала, но было нечто общее между всеми тремя (про Нострадамуса она знала мало и поэтому сразу забыла о нем). Всех троих объединяла любовь, объединяла своей недоступной науке, неизмеряемой энергией. И не важно была ли это любовь к родному городу, к односельчанам, или к одной женщине. Это она и попыталась объяснить двум мужчинам, так внимательно слушающим ее, как будто она была по меньшей мере нобелевским лауреатом по физике. Она один только раз произнесла это заветное слово, затасканное тысячами бесконечных сериалов, упоминаемое всуе миллионами книжек в ярких обложках, но все еще не обесценненое для тех немногих, которые произносят его редко и только глядя в единственные для них глаза.
Жилистый неуверенно сказал:
–– Чушь собачья…
Тогда она возмутилась и рассказала им все: и про Мишку, и про то как холодно стоять на сквозняке без домашних тапочек, и про исчезающую и появляющуюся люстру, и про лужу молока, про маму и про Соню. На протяжении ее рассказа менялось лицо Рыхлого: из вначале скептического, оно стало задумчивым, а потом и мечтательным. Жилистый снова хотел сказать что-то язвительное, но посмотрев на приятеля, осекся, подпер подбородок рукой и продолжил внимательно слушать. Когда она закончила, Рыхлый задумчиво произнес:
–– А что? Вполне возможно!
–– Ты что Попай? – возмутился Жилистый – накурился не того? У нас тут наука, а не мистика, смею напомнить!
–– Наука? – в свою очередь возмутился второй – Это ты про что? Случайно не про аппаратуру, которая ничего не в состоянии не только измерить. но даже зарегистрировать?
–– Значит неправильно меряем! – не сдавался Жилистый.
–– А вот теперь, братан, ты попал в точку – торжествующе заорал Рыхлый, да так, что не только Ася с Жилистым изумленно посмотрели на него, но на всякий случай прибежала и медсестра проверить все ли в порядке. Лишь один Мишка даже не пошевелился. Наслаждаясь всеобщим вниманием, Рыхлый начал объяснять. Каждый измерительный прибор, каждый метод измерения, говорил он, основан на том самом явлении, которое сам же и измеряет. Вольтметр, объяснял он, использует электромагнитную индукцию, то есть тот же электрический ток; барометр использует механическое давление, которое сам же и меряет; и прочая, и прочая. Увидев недоуменные лица слушателей, он тяжело вздохнул пораженный их тупостью и с видимым отвращением привел в пример весы, которым требуются тяжелые гири, чтобы измерить вес, а также линейку, протяженность которой позволяет измерять длину. Закончив с примерами он торжествующе посмотрел на Асю с Жилистым и по прежнему не увидел понимания. Вздохнув еще пару раз, он пояснил:
–– Для измерения любви – торжественно заявил он – нужен прибор основанный на любви и работающий на любви, а не на электричестве и не на бензине.
Изумленные слушатели молчали, стараясь переварить сказанное им. Первым опомнился, как ни странно, Жилистый.
–– Да ты Попай, совсем съехал с катушек! И как ты, интересно, будешь собирать такие приборы?
–– Ты имеешь ввиду, где взять столько любви? – ехидно поинтересовался тот.
Сама мысль об измерении любви показалась Асе сомнительной, если не сказать – кощунственной. Зато ей начал нравиться сам Рыхлый, да и его завиральная идея вызывала уважение. Она даже попыталась представить себе мир где энергия любви будет служить людям. Например, подумала она, утюг там будет нагреваться от нежности в семье, а самолет взлетит только если пилот влюблен. Пожалуй, такой мир ей бы понравился. Жилистый тоже, казалось бы, задумался, а его лицо перестало быть деревянным.
–– Что измерять-то будем? Удельную любвеобильность? Пропускную способность любить? А как ты назовешь единицы измерения? В одной джульетте сто беатриче? – Жилистый говорил, казалось бы, язвительно, издевался над Рыхлым, но на его лице не было насмешки. Рыхлый, похоже, хорошо знал своего напарника. Покосившись на него, он осторожно заметил:
–– А сто джульетт не стоят и одной Хадассы, верно, братан?
Он произнес это в совершенно не свойственной ему манере: тихо и мягко, а Жилистый не ответил и лишь криво усмехнулся. Ага, подумала Ася, вот тот случай когда самые закоренелые физики становятся лириками, но благоразумно ничего не сказала. И тут Мишка в очередной раз напомнил им про улицу Маклина и Соню.
–– Приблизительно восемнадцать байтов – непонятно выразился Рыхлый, глядя на Мишку. но Жилистый, отвлекшись от мыслей о неведомой Хадассе, его кажется понял. В ответ на недоуменный Асин взгляд он, вздохнув (наверное об Хадассе, подумала она), пустился в объяснения. По его словам для передачи данных между мирами требовались огромные затраты энергии ("Л-энергии", как немедленно стал именовать ее Рыхлый). Поэтому передавать удавалось ничтожные крохи информации, что неоднократно вызывало недоразумения. Стену между мирами пробивали либо отдельные слова, либо неясные образы. Наверное именно по этой причине катрены Нострадамуса были невнятны, Вольф Мессинг не всегда понимал то что видел, а Кассандре так и вообще никто не верил. Возможно, предположил подключившийся к обсуждению Рыхлый, то немногое, что проходило через барьер, было выстрадано пославшими его, вызывая невероятные выбросы Л-энергии. А вот информацию менее ценную, вроде цен на рыбу из Эгейского моря или результатов футбольных матчей, передать не представлялось возможным, так как вряд ли кто нибудь сможет набрать достаточно Л-энергии на такую ерунду.
А как же Мишка, подумала она? Значит для него это имя и этот адрес были самым важным? Постой, а почему для него? Для кого же? Кто передал ему эти байты бесценной информации? Он сам и передал, поняла она. Это был тот "потусторонний" Мишка, для которого самым важным в жизни оставался этот адрес. Наверное, он не мог пойти туда… Может быть уже не было такой улицы, а то и города, или там уже не жила девушка, так далеко запихивающая под кровать свои домашние тапочки. Сам он не мог это сделать, но сумел передать подсказку ее Мишке. Как это произошло? Приснившийся странный сон? Шепот в подсознании? Это было уже не важно. Важным оставалось то, что ее Мишка услышал и, наплевав на все сомнения, на предрассудки, на материализм, впитанный с молоком матери, на возможные насмешки, пошел на ничем не примечательную ленинградскую улицу и поднялся на третий этаж чтобы увидеть в проеме дверей босоногую Асю, которая оказалась его Соней. Теперь ей стало тревожно за того, другого Мишку, который совсем один оставался в своем страшном мире. По видимому, в том мире не было темного силуэта на фоне окна, ладошки, которой можно коснуться губами, как не было и лужи молока на полу и маленького сморщенного личика за стеклом на четвертом этаже роддома. И многого, многого другого, совершенно необходимого, не было в том неправильном мире. Потом ей стало страшно и за весь тот несчастный мир, лишившийся мишкиной Л-энергии, перешедшей к ней: сначала на улицу Маклина, а потом и в этот город на склоне горы. Но оказывается, это еще не был настоящий страх… Потому что внезапно она подумала о том, что могло случиться не получи ее Мишка этих восемнадцати байтов, этой невозможной телеграммы из будущего. Вот тут ей стало страшно по-настоящему, до могильного холода в тяжело застучавшем сердце.