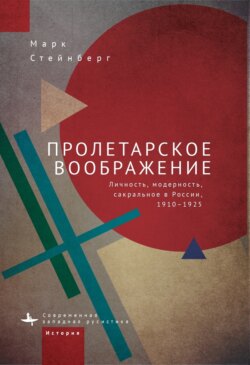Читать книгу Пролетарское воображение. Личность, модерность, сакральное в России, 1910–1925 - Марк Стейнберг - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Введение
Модерность
ОглавлениеРабочие писатели, будучи горожанами, пролетариями и часто участниками революции, ощущали ткань современной жизни буквально собственной кожей. Как и следует ожидать, физическая и социальная реальность современного города и его индустриального ландшафта, с фабриками, машинами и наемным трудом, накладывала отпечаток на их размышления о современности. Однако, предаваясь размышлениям и формулируя их на бумаге, они испытывали не только влияние эмпирической реальности города с его индустриальным бытом, но и влияние развивающегося публичного дискурса о модерности, особенно о специфических для нее пространствах города и промышленного производства. Этот культурный контекст значительно повышал уровень чувствительности к материальным и социальным условиям жизни, по мере того как материальное и социальное продолжало влиять на образ мыслей пролетарских писателей и способ усвоения ими чужих идей. Сочетание социального и культурного опыта придавало их восприятию современности значительную глубину.
Город издревле считается одним из самых ярких символов человеческой цивилизации. Являясь крупнейшим и наиболее долговечным творением воображения и рук человека, самым масштабным и наиболее устойчивым локусом межчеловеческих коммуникаций и взаимодействий, город рассматривается как показатель того, что человек есть и что он производит. Такое понимание города всегда отличалось двойственностью. В легендах, эпосе и утопиях как реальные, так и вымышленные города играли важную, но неоднозначную роль. Троя, Вавилон, Содом и Рим рассматривались как средоточия всего лучшего, что есть в человеке: силы, мудрости, творческого потенциала, прозорливости, – но и как средоточия гордыни и греха, обреченные на разрушение. В Новое время эта двойственность воспроизводится в образе города с новой силой. Большие города современности, такие как Лондон, Париж, Берлин, Нью-Йорк постоянно фигурируют как центры возможностей и опасностей, успеха и отчаяния, расцвета и упадка, созидательности и потерянности. Противоречивость облика города настолько прочно вошла в западную мысль, что породила глубокую психологическую и культурную обеспокоенность будущим цивилизации и ее творцов. Современность с бурным развитием технологий и обострением нравственных противоречий подсыпает соли на эту рану.
Модерность является ускользающей категорией прежде всего из-за своей принципиальной многозначности. Лишь частично ее можно определить как совокупность процессов и ценностей, порожденных рационализмом и научным прогрессом: модернизация административного и эстетического подхода к обществу и природе, курс на управление окружающей средой, социальными и экономическими процессами с помощью науки и технологии, отношение к городу и машине как символам рациональности, эффективности и развития[4]. Не являются исчерпывающими ни знаменитое определение модерности, данное Шарлем Бодлером, как «переходной, текучей, случайной» [Бодлер 1986: 287], ни эстетическая характеристика модерности как опыта культурного разрыва и неопределенности. Пытаясь примирить эти противоречивые аспекты модерности, литературовед Матей Калинеску ввел понятие «двух современностей». Одна современность может быть охарактеризована как «культ разума», «доктрина прогресса, уверенность в несущих благо возможностей науки и техники, внимание к темпоральности». Другая современность является эстетической, и она протестует против буржуазного упования на разум, науку, пользу и предлагает вместо них бунт, страсть, часто скептический и пессимистический взгляд на прогресс и на будущее [Calinescu 1987: 10, 42, 48, 89, 90, 162][5]. Политолог Маршалл Берман также утверждает, что модернизм в литературе, искусстве, интеллектуальной сфере подразумевает не столько рационализм и установку на прогрессистское упорядочивание, сколько взрыв, хаос, сдвиг, хотя и не исключает в принципе веры, пусть не всегда твердой, в то, что из этой бури родится новый и лучший мир (и красота) [Berman 1982].
Теоретики постмодерна пошли дальше описанного выше дуализма и провозгласили принцип множественности модерностей, учитывая повсеместность расслоения и дифференциации, вызванных гендерными, расовыми, классовыми и локальными особенностями; опыт тех, кто принадлежит к низшим слоям общества и маргинальным группам, значительно влияющий на картину модерности; различие в темпе времени, когда гибридные темпоральности обусловлены не только ускорением, сменой новостной повестки и инновациями, но и преемственностью, повтором и возвращением; а также модификацию модерностей в зависимости от эпохи и географии [Appadurai 1997; Gilroy 1993; Felski 1995; Felski 2000: chap. 2]. Развивая концепцию модерности далее, Зигмунт Бауман подчеркнул наличие взаимосвязи между модерностью и такими понятиями, как контингентность, текучесть и неопределенность. Модерность, утверждает он, принципиально самоотрицает себя и свои свойства. Современная культура, по сути своей критичная, неудовлетворенная и ненасытная, соответствует сути современного общества, которое находится в состоянии бунта, разрушения, нестабильности. Вместе с тем общество пытается преодолеть эту неопределенность: расколдовывает мир с помощью такой уловки, как «разумная причинность», следует по бесконечному пути прочь от дикости, непрерывно борется за универсальность, гомогенность, ясность, «отвергает амбивалентность». Одним словом, модерности по самой ее природе свойственно «жить самообманом» и во имя необходимости, универсальности, научной истины, определенности и закономерности пребывать в постоянном отрицании случайности, неопределенности, неустойчивости, амбивалентности, которые она сама же и производит [Bauman 1991]. Модерность, полагаю, лучше всего описывается именно через подобный противоречивый и развивающийся диалог двух тенденций, через неоднозначность (в смысле неразрешенного противоречия), которая происходит из взаимозависимости между контингентностью и ее отрицанием, между позитивистским рационализмом и скептическим иконоборчеством, между дисциплинарным подавлением и либидинальным эксцессом, между различимостью и пугающей неоднозначностью, между верой в прогресс (и удовольствием от нового) и глубокой неуверенностью в нем.
Современный город служит примером всех противоречий, заключенных в модерности. Быстрый рост городов в Европе и мире, вкупе с индустриализацией, начавшейся в XVIII веке, породил разновидность дискурса, в котором проблематизируется модерность как таковая. К середине XIX века наиболее распространенные и парадигмообразующие образы города в европейской и американской литературе обрели отпечаток модерности. Город являет себя как сгусток жизненной энергии и текучий поток («движущийся хаос», говоря словами Бодлера), его материальный ландшафт складывается из камней, бетона, машин и шумов, психологическая атмосфера проникнута одиночеством и тревогой («одиночество на мостовой», по известному выражению Н. Готорна, или «одиночество в толпе», по не менее известному выражению Э. По), это место, где царят мифы и экзистенциальное отчуждение, это сбивающий с толку лабиринт, где в каждый момент видна лишь часть целого[6]. Таковы современные образы города, которые обусловлены современным восприятием и пониманием мира и внушены формами и ритмами этого мира. Историки современной Европы отметили двойственность нарративов модерна: с одной стороны, безудержный индивидуализм, с другой стороны, подавление индивидуальности; с одной стороны, сомнения в допустимости новых ролей женщины, с другой стороны, ее активное вовлечение в динамичную общественную сферу, с одной стороны, поддержка эмансипации современными политиками, с другой стороны, одобрение ими репрессий; с одной стороны, развитие науки, с другой стороны, нарастание страха перед наукой. В новом переживании современности сочетаются вера в быстрый прогресс, ностальгия, обостренное ожидание конца света. Конечно, тревога о будущих судьбах мира или человеческого субъекта не является чем-то новым или характерным только для нашего времени. Для нашего времени характерно то, что эта тревога сопровождается противоречивыми настроениями: с одной стороны, стремлением к рационализации и дисциплинированию, с другой стороны, упоением случайностью и неопределенностью, и очевидно, что многие люди осознают эти противоречия[7].
В России хорошо понимали переживания европейцев и их взгляды на модерность, и это понимание усугублялось ярко выраженным и порой навязчивым комплексом собственной «отсталости»: задержкой в темпах индустриализации и урбанизации, а также наличием противоположных импульсов к дисциплине и хаосу в модерности. На рубеже XIX–XX веков русскую литературу и русскую прессу интересовала современная жизнь, с бурной витальностью и зловещими опасностями, увлекали соблазны модернистского упрощения и научного упорядочивания общества, политики и даже человеческой личности, а также склонность к не менее модернистскому конструирования себя, нарушению границ и отчаянию[8].
Соприкосновение с модерной реальностью для русских пролетарских писателей было особенно чувствительным и болезненным. Их неизбежно двойственная идентичность как городских рабочих и в то же время пишущих авторов придавала их символической интерпретации города, фабрики и машины самобытность и пафос. Их восприятие при всей его двойственности (и благодаря ей) было остро модерным. Город, фабрика и машина оставались чуждыми и зловещими явлениями даже для тех, кто был целиком связан с бытом индустриального мегаполиса, его эстетикой и перспективами. В сочинениях рабочих писателей чувство свободы сочеталось с чувством утраты и сожаления, опыт открытия и созидания собственной личности – с ощущением отчуждения от своей подлинной сущности, упоение пьянящими ритмами городской индустриальной жизни – с нередким отчаянием из-за ее жестокой бездушности. Некоторые авторы открыто выражали свое представление о современности как об эпохе, когда «чудеса выросли на ужасах, а ужасы – на чудесах» и «неожиданные боли и радости… бросаются в глаза на каждом шагу» [Ляшко 1921]. Даже самые утонченные интеллектуалы находили эти противоречия крайне болезненными. Такой, характерный для модерна, образ мышления прервался под воздействием постмодернистского умонастроения. А интеллигенты из рабочих отнюдь не наслаждались неопределенностью, парадоксальностью или иронией. Им хотелось бы, чтобы в мире было больше ясности, однозначности и веры. Не находя этого, они явно страдали.
4
Блестящий анализ «высокой модерности» современного государства можно найти в [Scott 1998]. Большая часть исследований М. Фуко посвящена современному развитию систем и структур власти, которые постоянно повышают степень наблюдения и контроля за субъектом. Общая характеристика западных моделей модерности дается в [Adas 1989:409–415]. Обзор всех концепций «человек как машина», начиная с эпохи Ренессанса, см. в [Mazlish 1993]. См. также определение Запада как машинной цивилизации в [Beard 1928:14–20].
5
Обсуждение модели западной модернизации см. в [Adas 1989: 409–415].
6
Образы города в западной культуре обсуждаются в [Schorske 1963: 95-П4;
Ihrupp 1963: 121-32; Mumford 1965: 271–292; Fisher 1975: 371–389; Pike 1981; Johnston 1984; Harvey 1985:180–206; Versluys 1987; Gilloch 1996; Buck-Morss 1999].
7
См. [Clark 1984; Walkowitz 1992; Felski 1995].
8
Историки лишь недавно приступили к отдельному изучению сложной культуры русской модерности. См. [Engelstein 1992; Neuberger 1993; Sylvester 1998]. Литературоведческих исследований об эпохе модерна в России имеется много, но в них мало внимания уделяется более широкому социальному и культурному контексту. Значимым исключением является [Clark 1995].