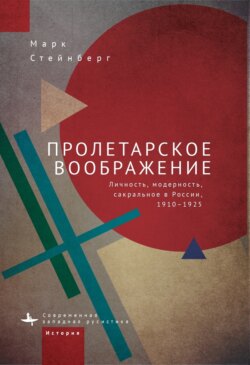Читать книгу Пролетарское воображение. Личность, модерность, сакральное в России, 1910–1925 - Марк Стейнберг - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Введение
Маргинальность
ОглавлениеВ данной книге рассматриваются механизмы функционирования культурных смыслов в группе, которая являлась маргинальной для современной ей России (а Россия сама являлась маргинальной для современной ей Европы); эта необычная группа находилась на окраине народной культуры и на окраине культуры образованных классов, она возникла в результате того, что часть грамотных бедняков с невероятной страстью принялась читать и писать. Данное исследование предполагает (точнее, утверждает), что изучение нетипичных частных случаев, лежащих в стороне от проторенной дороги, является чрезвычайно полезным: оно позволяет не только заполнить пробелы в наших знаниях, но и взглянуть с новой точки зрения на типичные явления, пересмотреть картину в целом. Этот аргумент уже не нов. Важные исторические исследования возникли из понимания того, что история маргиналов и отклонений от нормы говорит не только о себе, но и о норме, а также из понимания того, что лиминальные пространства и личности часто оказывают большое влияние на культуру. Исследование процессов, которые происходят на межнациональных границах или на окраинах городов, изучение нетипичных биографий женщин, рабочих и самых разных людей, которые конструируют свою идентичность на фронтирах повседневности, помогли лучше понять, как устроена нация, как развивается динамика городской жизни, какие возможности и ограничения порождает гендер или класс. Эти исследования весьма основательно пошатнули убеждение, будто истина пребывает на стороне социальных групп и будто для понимания прошлого (и настоящего) нужно изучать наиболее типичные и репрезентативные случаи[15].
Тех людей, о которых пойдет речь, лучше всего характеризует слово «странные». Их идентичность даже в собственных глазах был отмечена инаковостью. Берясь за перо, чтобы поведать свои мысли и чувства о внешнем и внутреннем мире, они проявляли и подпитывали свою странность как в качестве рабочих, так и в качестве писателей. Это симптоматичная странность, поскольку она затрагивает принципиальные границы, существовавшие в общественной жизни в наиболее бурный и драматичный период истории России, а именно: границы между физическим трудом и интеллектуальным творчеством, между народной культурой, массовой литературой и идейными поисками образованных сословий, между рутиной жизни рабочего класса и особенными биографиями одиночек, мечтателей, изгоев или вождей. Не менее важно и то, что эти писатели осваивали интеллектуальное и эмоциональное пограничье: зоны контакта и напряжения между коллективной идентичностью и личной изолированностью, социальной критикой и литературным воображением, сакральным и профанным, революционным энтузиазмом и экзистенциальной меланхолией.
Даже если мысли и чувства, выраженные рабочими писателями, принадлежат только им, все равно они представляют огромный интерес как проникнутое страстью свидетельство современников о важной исторической эпохе. Конечно, нельзя говорить об их оригинальности в чистом виде. Эти авторы неизбежно зависели от среды и от идей вокруг них. Их тексты являлись частью диалога с миром и культурой. Они не были «типичными представителями», но едва ли составляли аномалию. В сочинениях многих из них повторяются одни и те же темы (скорее вследствие одинакового жизненного опыта и одинакового круга чтения, чем вследствие взаимного влияния) – это показатель того, что их отношения с окружающим миром соответствуют определенной модели. В конце концов, их тексты очерчивают «горизонт возможного» внутри большой культуры, демонстрируют типы мышления простых людей (и не только простых), следы которого иначе утратились бы [Ginzburg 1982: 128].
Кроме того, эти специфические и даже странные тексты напоминают нам о многообразии того, что именуется массовой культурой или сознанием рабочего класса. Хотя в своей среде рабочие писатели были скорей чужими, чем своими, в то же время они выступали как лидеры и выразители своего класса, и эта роль им выпала по той же самой причине: следуя за своей страстью, они открыли для себя иной мир. Несмотря на всю их маргинальность – а в действительности благодаря ей – их слова и поступки оказывали влияние на окружающих. Не менее важно и то, что их пример помогает нам избавиться от стереотипных представлений о том, как мыслит или способен мыслить рабочий человек, о том, что он думает о классах или о социализме, о личности, модерности и сакральном. Как будет видно из дальнейшего, инакомыслие обнаруживается даже у, казалось бы, «сознательных» рабочих. Моя цель – пролить новый свет на известные истории и обнаружить в них новое.
15
См., например, [Scott 1998; Ranciere 1989; Levi 1991: 93-113; Ginzburg 1982;
Davis 1995]. Категория лиминальности, а также жизнь лиминальных личностей и их культурная роль, подчас весьма важная, лучше исследованы антропологами, чем историками.