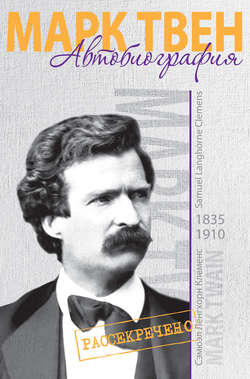Читать книгу Автобиография - Марк Твен, Mark Twain - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Автобиография
Автобиография [Выборочные отрывки]
Глава
ОглавлениеЗа дорогой, на которой грелись на солнце змеи, находилась густая молодая чаща, а через нее вела тускло освещенная тропинка протяженностью с четверть мили. Затем из полутьмы путник внезапно выходил на ровную поляну, покрытую кустиками дикой земляники, усыпанную звездочками луговой гвоздики и окруженную со всех сторон стеной леса. Земляника была превосходная и душистая, и в сезон мы обычно ходили туда свежим, бодрящим ранним утром, пока в траве еще сверкали бусинки росы, а леса звенели первыми песнями птиц.
Слева, ниже по лесистому склону, стояли качели, сделанные из коры, ободранной с молодых ореховых деревьев. Когда кора высыхала, качели становились опасными. Они обычно подламывались, когда ребенок находился в сорока футах над землей, – вот почему каждый год приходилось чинить так много костей. Меня самого эта злая судьба не постигла, но никто из моих кузенов ее не избежал. Таковых было восемь, и одно время было сломано в общей сложности четырнадцать рук. Но с точки зрения издержек это ничего не стоило, потому что врач брал деньги за год – двадцать пять долларов за всю семью. Я помню двух флоридских докторов, Чаунинга и Мередита. Они не только обслуживали целую семью за двадцать пять долларов в год, но и сами доставляли лекарства. В изрядных количествах. Только самые крупные особи могли вместить в себя полную дозу. Главным средством было касторовое масло. Доза составляла полковша, пополам с полуковшом новоорлеанской черной патоки, добавленной, дабы облегчить проглатывание и придать снадобью приятный вкус, каковая цель никогда не достигалась. Другой надежной помощницей была каломель, затем шел ревень, а следующим – корень ялапы[56]. Затем еще пациенту пускали кровь и ставили горчичники. Это была наводящая ужас система, и тем не менее уровень смертности был невысок. Каломель почти непременно вызывала у пациента повышенное слюноотделение и стоила ему нескольких зубов. Зубных врачей не было. Когда зубы начинали разрушаться или почему-либо еще болеть, доктор делал только одно: приносил клещи и выдергивал их. Если челюсть при этом сохранялась, то была не его вина.
Врачей не вызывали в случаях обычных болезней – ими занимались бабушки семейств. Каждая пожилая женщина была лекарем, собирала собственные медикаменты в лесах и знала, как составлять дозы, которые встряхнули бы жизненно важные органы и у отлитой из чугуна собаки. Затем был еще так называемый «индейский доктор» – мрачный дикарь, уцелевший обломок своего племени, погруженный в тайны природы и скрытые свойства трав. Большинство обитателей лесной глуши имели высокую веру в его силу и могли порассказать о чудесных исцелениях, которых он добился. На Маврикии, затерянном в просторах Индийского океана, есть человек, похожий на нашего индейского доктора тех времен. Он негр и не получил медицинского образования, но тем не менее существует одна болезнь, по которой он мастер и которую умеет лечить, а доктора – нет. За ним посылают, когда она приключается. Это детское заболевание странного и смертельного характера. И негр излечивает его травяным снадобьем, которое изготавливает сам по рецепту, перешедшему к нему от отца и деда. Он ни за что и никому не позволяет взглянуть на этот рецепт. Он хранит секрет его состава для себя, и люди опасаются, что он умрет, так и не раскрыв его, – тогда на Маврикии воцарится ужас. Мне рассказывали об этом тамошние люди в 1896 году.
У нас в те давние времена тоже был такой знахарь – пожилая женщина. Ее специализацией была зубная боль. Она была женой фермера и жила в пяти милях от Ганнибала. Она накладывала руку на челюсть пациента, говорила: «Веруй!» – и исцеление немедленно наступало. Миссис Аттербек. Я помню ее очень хорошо. Дважды я ездил к ней вместе с матерью верхом на лошади и видел, как проходило лечение. Пациенткой была моя мать.
Несколько позже в Ганнибал переехал доктор Мередит. Он стал нашим семейным лекарем и несколько раз спасал мне жизнь. Несмотря на это, он был хорошим человеком, и намерения у него были добрые. Ну и слава Богу.
Мне всегда говорили, что я был болезненным, хилым, хлопотным и ненадежным ребенком и первые семь лет своей жизни жил преимущественно на аллопатических медикаментах. Я расспрашивал об этом мать в конце ее жизни – она была тогда на восемьдесят восьмом году:
– Наверное, на протяжении всего того времени ты тревожилась за меня?
– Да, постоянно.
– Боялась, что я не выживу?
Она задумчиво помедлила – по-видимому, чтобы обдумать факты, – и сказала:
– Нет – боялась, что выживешь.
Звучит как плагиат, но, по всей вероятности, это было не так.
Здание сельской школы находилось в трех милях от фермы моего дяди. Оно стояло на лесной опушке и вмещало примерно двадцать пять мальчиков и девочек. Мы посещали школу более или менее регулярно, раз или два в неделю, летом, шагая туда утром, по холодку, лесными тропинками, и обратно – в сумерках, в конце дня. Все ученики приносили с собой обеды в корзинках – кукурузные лепешки, пахту и другие вкусные вещи – и, сидя в полдень в тени деревьев, их съедали. Это та часть моего образования, о которой я вспоминаю с наибольшим удовольствием. Мой первый визит в школу произошел, когда мне было семь лет. Рослая девушка лет пятнадцати, в традиционном чепчике от солнца и набивном ситцевом платье, спросила меня, употребляю ли я табак – имея в виду, жую ли я его. Я сказал, что нет. Это вызвало у нее презрение. Она представила меня всему сборищу и сказала:
– Перед вами семилетний мальчик, который не умеет жевать табак.
По взглядам и комментариям, которые это вызвало, стало ясно, что я – пропащий тип. Мне было мучительно стыдно, и я твердо решил исправиться, но все закончилось тем, что меня затошнило и я так и не смог выучиться жевать табак. Я научился очень неплохо курить, но это никого не умилостивило – я так и остался бесхарактерным беднягой. Я страстно желал быть достойным уважения, но так и не сумел возвыситься в их глазах. У детей очень мало милосердия к недостаткам друг друга.
Как уже было сказано, до двенадцати или тринадцати лет я каждый год проводил какую-то часть времени на ферме. Жизнь, которую я там вел с моими кузенами, была полна очарования, и таковыми до сих пор остаются воспоминания о ней. Я помню исполненные торжественности сумерки и таинственность густых лесов, запахи земли, слабые ароматы полевых цветов, сверкание омытой дождем листвы, дробный стук капель, когда ветер раскачивает деревья, отдаленный стук дятлов и приглушенную барабанную дробь лесных фазанов в глуши леса, стремительные взгляды потревоженных диких существ, мечущихся в траве, – все это я могу вызвать в памяти и сделать таким реальным, каким оно было тогда, и таким же благословенным. Я могу припомнить прерию, ее одиночество и покой и громадного ястреба, неподвижно зависшего в небе, с широко расправленными крыльями, и проглядывающую сквозь бахрому перьев синеву свода. Я вижу леса в осеннем уборе, пурпурные дубы, орешники-гикори, облитые золотом, клены и кусты сумаха, сияющие малиновым пламенем, и слышу шорох опавших листьев под нашими ногами. Я вижу синие гроздья дикого винограда, висящие среди листвы молодых побегов, и помню его вкус и запах. Я знаю, как выглядит дикая ежевика и какова она на вкус – то же самое с папайей, лесными орехами и хурмой, – и чувствую глухую дробь по моей голове орехов-гикори и лесных орехов, когда морозным утром мы выходили собирать их наперегонки со свиньями, а порывы ветра срывали их и швыряли вниз. Я знаю, как выглядит пятно от ежевики и как оно красиво, и знаю, как выглядит пятно от скорлупы лесного ореха и как трудно его отстирать, только зря потратишь время. Я знаю вкус кленового сока, и когда надо его собирать, и как располагать лотки и направляющие трубки, и как уваривать сок, и как украсть кленовый сахар, после того как он сделан. А еще – насколько ворованный сахар вкуснее любого другого, который достается тебе честным путем, что бы там ни говорили ханжи. Я знаю, как выглядит призовой арбуз, когда он греет на солнце свою толстую округлость среди плетей тыквы и своих собратьев; я знаю, как узнать, спелый он или нет, не разбивая; я знаю, как призывно он выглядит, когда охлаждается в лохани с водой под кроватью; я знаю, как он выглядит, когда лежит на столе под огромным навесом между домом и кухней и дети собрались для его заклания и у них текут слюнки. Я знаю, как он трещит, когда разделочным ножом ему отрезают верхушку, и вижу, как трещина бежит вслед за лезвием, по мере того как нож прокладывает себе путь к другому концу; я вижу, как распадаются его половинки, обнажая роскошную красную плоть, черные семечки и выпуклое сердце, – роскошь, достойная избранных. Я знаю, как выглядит мальчик перед ломтем такого арбуза длиною в ярд, и знаю, что он при этом чувствует, потому что я там был. Я знаю вкус арбуза, который достался честным путем, и вкус арбуза, приобретенного хитростью. Оба хороши на вкус, но бывалые-то знают, какой вкуснее. Я знаю вкус зеленых яблок, груш и персиков на деревьях и знаю, какие они уморительные, когда попадают человеку внутрь. Я знаю, какими спелыми и красивыми они выглядят, будучи сложены в пирамиды под деревьями, и какие яркие у них краски. Я знаю, как выглядит мороженое яблоко в бочке в погребе в зимнее время, и как трудно его укусить, и как от холода ломит зубы, и как, однако же, это вкусно, несмотря ни на что. Я знаю склонность пожилых людей отбирать испещренные крапинками яблоки детям, и когда-то знал способы, как их перехитрить. Я знаю, как выглядит яблоко, которое печется и шипит при этом на каменной плите перед очагом зимним вечером, и знаю, какая это нега – есть его горячим, посыпав сахаром и хорошенько полив сливками. Мне знакомо тонкое и таинственное искусство, как колоть орехи молотком на утюге, чтобы ядра сохранялись невредимыми, и я знаю, как орехи вместе с зимними яблоками, сидром и пончиками заставляют старые байки и старые шутки стариков звучать свежо, живо и чарующе и как вечер неприметно сходит на нет, прежде чем поймешь, куда делось время. Я знаю, как выглядела кухня дядюшки Дэнла в счастливые вечера, когда я был ребенком, и вижу белых и черных детей, собравшихся перед камином, когда отблеск огня играет на их лицах, а мерцающие на стенах тени отступают в глухой, похожий на пещеру сумрак в задней части комнаты. Я слышу, как дядя Дэнл рассказывает бессмертные сказки, которые Харрису[57] только еще предстояло собрать в свою книгу и очаровать ими мир, и я вновь ощущаю сладкие дрожь и ужас, которые пронизывают меня, когда наступает время страшилки о Золотой руке, – как и чувство сожаления, которое охватывало меня, потому что это всегда была последняя сказка за вечер и уже ничто не стояло между ней и нежеланным отходом ко сну.
Я помню голую деревянную лестницу в доме дяди и поворот налево над лестничной площадкой, и стропила, и наклонную крышу над моей кроватью, и квадраты лунного света на полу, и белый холодный заснеженный мир снаружи, видимый сквозь лишенное занавесей окно. Я помню завывание ветра и содрогание дома в ненастные ночи, и как тепло и уютно ты себя чувствуешь под одеялом, прислушиваясь к непогоде, и как насыпа́лся мелкий снежок в щели оконных переплетов и укладывался маленькими гребешками на полу, заставляя комнату выглядеть зябкой по утрам и обуздывая сумасбродное желание вылезти из постели – если таковое вообще возникало. Я могу вспомнить, какой ужасно темной была эта комната в новолуние и какой зловещей тишиной была наполнена, когда случайно проснешься среди ночи и забытые грехи выходят, теснясь, из тайных закоулков памяти и требуют суда, и насколько неверным казался выбор времени для такого рода дел, и каким гнетущим было уханье совы и завывание волка, траурно доносимые ночным ветром.
Я помню неистовство дождя, колотившего по той же крыше летними ночами, и то, как приятно было лежать и слушать его и наслаждаться белым великолепием молнии и величественным треском и грохотом грома. Это была очень подходящая комната, с громоотводом, до которого можно было дотянуться из окна, – вещь восхитительная и коварная, по которой приходилось лазать вверх-вниз летними ночами, когда имелись дела такого рода, где требовалась секретность.
Я помню охоту на енотов и опоссумов по ночам, с неграми, и долгие переходы через черный сумрак лесов, и волнение, которое воспламеняло каждого, когда отдаленный лай опытной собаки возвещал, что дичь загнана на дерево; затем неистовое и беспорядочное продирание и ковыляние сквозь колючие заросли и через корни деревьев, чтобы добраться до этого места; затем разжигание костра и рубка дерева, неистовая радость собак и негров и причудливо-жутковатая картина всего этого в красном отблеске огня – я помню все это хорошо, и то наслаждение, которое каждый от этого испытывал, кроме разве что енота.
Я помню голубиные сезоны, когда птицы слетались миллионами и обседали деревья, и под их весом подламывались ветки. Их забивали палками – ружья не требовались и не применялись. Я помню охоты на белок, на степных тетеревов и на диких индюков: как мы собирались по утрам, когда еще темно, чтобы отправляться в эти экспедиции, и как зябко и угрюмо это ощущалось, и как часто я сожалел, что не болен и могу идти. Звук жестяного рожка созывал вдвое больше собак, чем нам требовалось, и, переполненные счастьем, они носились туда-сюда и сшибали с ног тех, кто был поменьше, и конца не было их ненужному шуму. По словесной команде они стремглав неслись в сторону леса, а мы молча и в меланхолическом настроении неторопливо двигались за ними. Но понемногу серый рассвет занимался над миром, запевали птицы, потом вставало солнце, разливая вокруг свет и утешение, – все было свежим, росистым и благоуханным, и жизнь вновь казалась благодеянием. После трех часов скитаний мы возвращались обратно, по-хорошему усталые, нагруженные дичью, очень голодные и как раз к завтраку.
56
Каломель, ревень, корень ялапы – слабительные средства. – Примеч. пер.
57
Харрис, Джоэль Чендлер (1848–1908) – американский писатель, автор «Сказок дядюшки Римуса», являющихся переработкой негритянского фольклора. – Примеч. науч. ред.