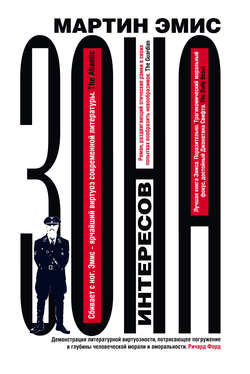Читать книгу Зона интересов - Мартин Эмис - Страница 6
Часть II
К делу
1. Томсен: Защитники
ОглавлениеБорис Эльц собирался рассказать мне о Составе особого назначения 105, и я хотел услышать его историю, но сначала спросил:
– Как твои нынешние успехи? Напомни.
– Ну, есть та повариха из «Буны» и буфетчица в Катовице. Кроме того, я надеюсь добиться кое-чего от Алисы Зайссер. Вдовы штабсфельдфебеля. Он погиб всего неделю назад, однако она, похоже, весьма не прочь. – И Борис добавил кой-какие подробности. – Беда в том, что она через день-другой возвращается в Гамбург. Я уже задавал тебе этот вопрос, Голо. Женщины мне нравятся самые разные, но почему меня тянет только к простушкам?
– Не знаю, брат. Черта не такая уж и непривлекательная. А теперь, прошу тебя. Сто пятый состав.
Он сцепил на затылке ладони.
– Смешные они, эти французы, верно? Тебе так не кажется, Голо? Никак не могу отделаться от мысли, что они стоят в мире на первом месте. По утонченности, по учтивости. Нация признанных трусов и лизоблюдов – но по-прежнему предполагается, что они лучше всех прочих. Лучше нас, грубых германцев. Даже лучше англичан. И какая-то часть тебя соглашается с этим. Даже сейчас, когда они полностью раздавлены и корчатся под нашей пятой, ты все равно ничего не можешь с этим поделать.
Борис покачал головой, искренне дивясь странностям человеческой натуры – и в целом, и ее «искривленного дерева»[25].
– Такие штуки въедаются в сознание очень глубоко, – сказал я. – Продолжай же, Борис, будь добр.
– Ну, я испытал облегчение – нет, счастье и гордость, – обнаружив перрон в наилучшем его виде. Выметенным и политым из шланга. Особо пьяных среди нас не наблюдалось: время было еще раннее. Красивый закат. Даже запах ослаб. Подошел пассажирский поезд – загляденье. Такой мог прийти из Канн или из Биаррица. Люди вышли сами, без посторонней помощи. Ни плетей, ни дубинок. Никаких вагонов для скота, залитых бог знает чем. Старый Пропойца произнес речь, я перевел, и мы тронулись в путь. Вот тут и появился этот сраный грузовик. И провалил все дело.
– А почему? Что он вез?
– Трупы. Дневной урожай трупов. Доставка из Шталага[26] на Весенний луг.
По его словам, около дюжины трупов наполовину свисало сзади, и в воображении Бориса нарисовалась картина: экипаж призраков блюет, привалившись к борту корабля.
– Руки-ноги болтались. И это были не просто трупы стариков. Изможденные трупы. В дерьме, в грязи, в отрепьях, покрытые ранами, запекшейся кровью и нарывами. Сорокакилограммовые трупы забитых до смерти людей.
– Хм. Как некстати.
– Зрелище не из самых изысканных, – сказал Борис.
– Тогда-то они и завыли? Мы слышали вой.
– Да, там было на что посмотреть.
– И было что… э-э… истолковать. – Я имел в виду не только это представление, но и его изложение: история получалась основательной. – Над чем задуматься.
– Дрого Уль считает, что они ничего не поняли. А я думаю, им стало стыдно за нас – смертельно стыдно. За наше… cochonneries[27]. Грузовик, набитый трупами изможденных людей. Все это так бестактно и провинциально, тебе не кажется?
– Возможно. Хоть и спорно.
– Так второсортно. И решительно ничего нам не дает.
Обманчиво низкорослый и обманчиво худощавый, Борис был оберфюрером войск СС – хорошо вооруженных, сражающихся, боевых частей СС. Войска СС считались в меньшей степени скованными иерархическими соображениями – более донкихотскими и непринужденными, чем Вермахт; во всей их цепочке подчиненности допускались живые расхождения во мнениях, направленные и сверху вниз, и снизу вверх. Одно из расхождений Бориса с его начальством коснулось вопросов тактики (дело было под Воронежем) и привело к кулачной драке, в которой молодой генерал-майор лишился зуба. По этой причине Борис и оказался здесь – «среди австрийцев», как он выражался (да еще и пониженным в звании до капитана). Ему оставалось прослужить в лагере девять месяцев.
– А что насчет селекции? – спросил я.
– Селекции не было. Все они годились только для газовой камеры.
– Я вот думаю. Чего же мы с ними не делаем? Полагаю, не насилуем.
– По большей части. Зато делаем кое-что похуже. Тебе следует проникнуться определенным уважением к твоим новым коллегам, Голо. Много, много худшее. Мы отбираем самых хорошеньких и ставим на них медицинские опыты. На их детородных органах. Превращаем их в маленьких старушек. А после голод превращает их в маленьких старичков.
Я спросил:
– Ты согласен, что обходиться с ними хуже мы уже не можем?
– Ой, брось. Мы их все-таки не едим.
На мгновение я задумался.
– Да, но против этого они не возражали бы. Лишь бы мы не ели их живьем.
– Верно, однако то, что мы делаем, заставляет их есть друг друга. А против этого они возражают… Кто же в Германии не думает, Голо, что с евреев следует сбить спесь? Но происходящее сейчас смехотворно, и только. И знаешь, что в этом самое плохое? Какой из этих кусков не лезет мне в горло?
– Полагаю, что знаю, Борис.
– Да. Сколько дивизий мы связываем по рукам и ногам? У нас же тысячи лагерей. Тысячи. Мы расходуем человеческий труд, гоняем поезда, перегружаем работой полицию, пережигаем топливо. И убиваем нашу же рабочую силу! А ведь идет война!
– Вот именно. Идет война.
– И какое все это имеет отношение к ней?.. О, ты посмотри на нее, Голо. Вон там, в углу, с короткими темными волосами. Это Эстер. Видел ты в своей жизни что-нибудь хоть на одну десятую столь же милое?
Разговаривали мы в маленьком кабинете Бориса на первом этаже, из окон его открывался пространный вид на «Калифорнию»[28]. Эта самая Эстер принадлежала к Aufräumungskommando, команде расчистки, в которую входило двести-триста женщин (состав ее то и дело менялся), работавших в заполненном навесами Дворе – размером с футбольное поле.
Борис встал, потянулся.
– Я ее спас. Она била камень в Мановице. Потом кузина тайком протащила ее сюда. Конечно, Эстер разоблачили, она же была обрита наголо. И определили на чистку сортиров. Но я за нее заступился. Не так уж это и трудно. Отдаешь одну, получаешь другую.
– И за это она тебя ненавидит.
– Ненавидит. – Он горестно покивал. – Мы таки снабдили ее кое-какими поводами для ненависти ко мне.
Борис стал постукивать вечным пером по оконному стеклу и постукивал, пока Эстер не подняла на него взгляд. Она сильно округлила глаза и вернулась к своей работе (занятие у нее было странное – выдавливание зубной пасты из тюбиков в треснувший кувшин). Борис подошел к двери кабинета, открыл ее и поманил девушку к себе:
– Госпожа Кубис. Будьте любезны, идите сюда и возьмите почтовую открытку.
Пятнадцатилетняя, из сефардов, я полагаю (левантийский окрас), хорошо, крепко сложенная, атлетичная, она каким-то образом ухитрялась приволакивать, входя в кабинет, ноги; грузность ее поступи казалась почти саркастической.
Борис сказал:
– Садитесь, пожалуйста. Мне нужен ваш чешский и ваш девичий почерк. – И, улыбнувшись, прибавил: – Эстер, почему я вам так противен?
Она подергала рукав своей робы.
– Мой мундир? – Он протянул ей остро заточенный карандаш: – Готовы? «Дорогая мама, запятая, это пишет за меня моя подруга Эстер… запятая, потому что я поранила руку, запятая». С твоего разрешения, я подиктую, Голо. «Когда собирала розы, точка». Как поживает Валькирия?
– Я увижу ее нынче вечером. Во всяком случае, надеюсь на это. Старый Пропойца дает обед для сотрудников «Фарбен».
– Знаешь, я слышал, она горазда на увертки. А если ее не будет, ты помрешь со скуки. «Как описать жизнь на сельскохозяйственной станции, знак вопроса». Хотя пока что вид у тебя довольный.
– О да. Я полон трепетных предвкушений. Я даже решился подъехать к ней, на словах, сообщил мой адрес. И теперь жалею об этом, потому что все время думаю: а вдруг она сейчас постучит в мою дверь? Не скажу, чтобы она так уж ухватилась за эту идею, однако меня выслушала.
– «Работа требует много сил, запятая». Тебе нельзя приводить ее к себе, особенно при той пронырливой суке, что живет на первом этаже. «Но мне так нравится жить за городом, запятая, на свежем воздухе, точка».
– Ну, что получится, то и получится. Она великолепна.
– Да, великолепна, но уж больно ее много. «Условия здесь и вправду очень достойные, запятая». Мне нравятся те, что поменьше. Они сильнее стараются. «Спальни у нас простые, запятая, но удобные, открыть скобку». К тому же их можно гонять по всей квартире. «А в октябре нам выдадут…» Знаешь, ты сумасшедший.
– С чего это вдруг?
– С него. «А в октябре нам выдадут великолепные пуховые одеяла, запятая, чтобы укрываться холодными ночами, закрыть скобку, точка с запятой». С него. Со Старого Пропойцы.
– Он ничтожество. – И я прибегаю к выражению на идиш, произнося его достаточно точно для того, чтобы карандаш госпожи Кубис на миг замер в воздухе. – Он grubbe tuchus. Толстожопик. Слабак.
– «Еда здесь, запятая, правда, запятая, простая, запятая, но полезная, запятая, и ее много, точка с запятой». Старый толстожопик злобен, Голо. «И все содержится в безупречной чистоте, точка». И коварен. Коварством слабака. «Огромные», подчеркните это, пожалуйста, «огромные купальни фермы, запятая… по которым расставлены очень большие ванны, точка. Чистота, запятая, чистота, тире, ты ведь знаешь немцев, восклицательный знак». – Борис вздохнул и попросил с нетерпеливостью подростка и даже ребенка: – Госпожа Кубис. Прошу вас, время от времени поднимайте на меня взгляд, чтобы я мог, по крайней мере, видеть ваше лицо!
Куря сигариллы и попивая из конических бокалов кир[29], мы озирали «Калифорнию», которая походила одновременно на огромную арену, опорожняемый универсальный магазин длиной в целый квартал, благотворительный базар с распродажей всякого старья, аукционный зал, торговую ярмарку, рынок, агору, сук – камеру забытых вещей всепланетного вокзала.
Утрамбованная груда рюкзаков, ранцев, вещевых мешков, чемоданов и сундуков (последние пестрели манящими путевыми наклейками, от которых веяло пограничными заставами, мглистыми городами) походила на огромный костер, ожидавший, когда к нему поднесут факел. Стопка одеял высотой с трехэтажный дом: никакая принцесса, как бы нежна она ни была, не смогла бы почувствовать горошину под их двадцатью, если не тридцатью тысячами. И повсюду вокруг широкие отвалы кастрюль и сковородок, щеток для волос, рубашек, пиджаков, платьев, носовых платков – это не считая часов, очков, всякого рода протезов, париков, искусственных зубов, слуховых аппаратов, ортопедических ботинок, корсетов. За ними взгляд утыкался в курган из детской обуви, в раскидистую гору колясок – одни были просто деревянными корытцами на колесах, другие затейливо изогнутыми экипажами для маленьких герцогов и герцогинь. Я спросил:
– Чем она тут занимается, твоя Эстер? Какое-то негерманское у нее дело, нет? Кому нужен кувшин с зубной пастой?
– Она ищет драгоценные камни… Знаешь, как она завоевала мое сердце, Голо? Ее заставили танцевать для меня. Она походила на струйку воды, я чуть не заплакал. Был мой день рождения, и она танцевала передо мной.
– Ах да. С днем рождения, Борис.
– Спасибо. Лучше поздно, чем никогда.
– И как себя чувствует тридцатидвухлетний мужчина?
– Нормально, я полагаю. Пока что. Скоро выяснишь сам. – Он провел языком по губам. – Ты знаешь, что они сами оплачивают проезд? Оплачивают билеты сюда, Голо. Не знаю, как было с теми парижанами, но таково правило… – Он наклонился, чтобы смахнуть вызванную едким дымом слезу. – Правило требует оплаты проезда третьим классом. В один конец. С детей не старше двенадцати берут половину. В один конец – Борис выпрямился. – Неплохо, не правда ли?
– Можно сказать и так.
– Надменных евреев следовало спустить на землю. Что и было проделано в тридцать четвертом. Но это – это охеренная нелепость.
* * *
Да, там были Свитберт и Ромгильда Зидиг, там были Фритурик и Амаласанда Беркль, были Ули – Дрого и Норберта, еще были Болдемар и Трудель Зюльц… Я… я, разумеется, пришел без пары, однако меня таковой снабдили – молодой вдовой Алисой Зайссер (штурмшарфюрер Орбарт Зайссер совсем недавно покинул наш мир с превеликим неистовством и бесчестьем – здесь, в Кат-Зет).
Да, еще там были Пауль и Ханна Долль.
Дверь мне открыл майор. Отступив на шаг, он сказал:
– Смотрите-ка, да он при полном параде! И у него имеется офицерское звание, ни больше ни меньше…
– Номинальное, мой господин. – Я вытирал ноги о коврик. – Да и звание-то ниже некуда, не так ли?
– Звание не есть бесспорная мера значимости, оберштурмфюрер. Главное – объем компетенции. Возьмите хоть Фрица Мебиуса. Звание у него еще и ниже вашего, а положение блестящее. Все дело в объеме компетенции. Ну, проходите, молодой человек. А на это внимания не обращайте. Несчастный случай в саду. Я получил сильный удар по переносице.
От которого глазницы Пауля Долля в миг почернели.
– Пустяки. Я знаю, что такое настоящие раны. Видели бы вы, во что я обратился в восемнадцатом на Иракском фронте. Меня там по кускам собирали. И об этих тоже не беспокойтесь.
Он подразумевал своих дочерей. Полетт и Сибил сидели вверху лестницы в ночных рубашках, держались за руки и неутомимо плакали. Долль сказал:
– Господи боже. Вечно они нюнят из-за сущей безделицы. Ну-с, а где же моя госпожа супруга?
Я решил не смотреть на нее. И потому Ханна – огромная, покрытая свежим загаром богиня в вечернем платье из янтарного шелка – была почти сразу отправлена в пустые просторы моего периферийного зрения… Я знал, что меня ожидает долгий, насыщенный лицемерием вечер, и все же надеялся достичь скромного, но успеха. План у меня был такой: завести разговор на определенную тему, привлечь к ней всеобщее внимание и, быть может, воспользоваться ее притягательностью. Притягательностью, увы, достойной сожаления, но почти неизменно приносящей плоды.
Высокий худощавый Зидиг и дородный низенький Беркль явились на вечер в деловых костюмах, прочие мужчины – в парадной форме. Долль, надевший свои регалии (Железный крест, «Шеврон старого бойца», перстень «Мертвая голова»), стоял спиной к дровяному камину, до нелепости широко расставив ноги, покачиваясь на каблуках и, да, время от времени поднимая руку к глазам и оставляя ее подрагивать у жутких припухлостей под бровями. Алиса Зайссер была в трауре, а Норберта Уль, Ромгильда Зидиг, Амаласанда Беркль и Трудель Зюльц блистали бархатом и тафтой, точно игральные карты – дамы бубен, дамы треф. Долль сказал:
– Угощайтесь, Томсен. Давайте, давайте.
На буфете в изобилии располагались тарелки с бутербродиками (копченая семга, салями, селедка), рядом полный бар плюс четыре-пять наполовину опустошенных бутылок шампанского. Я направился к буфету вместе с Улями – Дрого, средних лет капитаном с телосложением портового рабочего и сизым от щетины раздвоенным подбородком, и Норбертой, завитым суетливым существом в серьгах размером с кегли и в золотой диадеме. Словами мы обменялись немногими, но все же я совершил два умеренно удивительных открытия: Норберта и Дрого терпеть друг дружку не могут, и оба уже пьяны.
Я подошел к Фритурику Берклю, и мы минут двадцать проговорили о делах; затем из двойных дверей вышла Гумилия и, сделав робкий книксен, известила нас, что кушать подано.
Ханна спросила у нее:
– Как девочки? Получше?
– Все еще очень плохо, мадам. Никак не могу их успокоить. Они безутешны.
Гумилия отступила в сторону, Ханна быстро прошла мимо нее, Комендант, досадливо улыбаясь, проводил супругу взглядом.
– Ну-с, вы вот здесь. А вы там.
Борис сумрачно предупредил меня, что женщин усадят en bloc[30], а то и вовсе на кухне (возможно, вместе с отправленными туда пораньше детьми). Но нет – обедали мы на стандартный двуполый манер. За круглым столом нас сидело двенадцать человек, и если считать, что я оказался на шестичасовой отметке, то Долль занял одиннадцати-, а Ханна двухчасовую (технически мы с ней могли бы переплести наши ноги, но, предприми я такую попытку, контакт с креслом сохранил бы лишь мой затылок). По одну руку от меня восседала Норберта Уль, по другую – Алиса Зайссер. Повязавшие головы белыми платочками служанка Бронислава и еще одна, добавочная, Альбинка, длинными святочными спичками зажгли свечи. Я сказал:
– Добрый вечер, дамы. Добрый вечер, госпожа Уль. Добрый вечер, госпожа Зайссер.
– Спасибо, мой господин. Конечно, мой господин, – ответила Алиса.
За супом в этих краях было принято беседовать с женщинами; потом, когда заводился общий разговор, предполагалось, что они будут все больше помалкивать (обратившись в своего рода набивочный материал, в амортизаторы). Норберта Уль, низко склонив над скатертью красноватое, разочарованное лицо, хрипло посмеивалась каким-то своим мыслям. И я, не взглянув в сторону двух часов, повернулся от семи к пяти и завел беседу с вдовой:
– Я очень огорчился, госпожа Зайссер, узнав о вашей утрате.
– Да, мой господин, благодарю вас, мой господин.
Лет ей было уже под тридцать; интересная бледность, множество родинок (когда она села и подняла узловатую черную вуаль, у меня возникло ощущение цельности ее натуры). Борис был многоречивым поклонником округлого, малорослого тела Алисы (чьи движения казались этим вечером плавными и живыми, даром что передвигалась она погребальной какой-то поступью). Она поведала мне, в низменных подробностях, о последних часах штабсфельдфебеля.
– Такая глупая смерть, – закончила свой рассказ Алиса.
– Что же, сейчас время великих жертв и…
– Это верно, мой господин. Благодарю вас, мой господин.
Алису Зайссер пригласили сюда не как друга или коллегу, но как почтенную вдову скромного штурмшарфюрера, и она конфузилась, явственно и мучительно. Мне захотелось как-то успокоить ее. И некоторое время я пытался отыскать нечто положительное, какую-то искупительную черту – да, серебристый подбой черной грозовой тучи, какой выглядела кончина Орбарта. Я решил начать со слов о том, что, по крайности, штурмшарфюрер находился во время случившегося с ним несчастья под воздействием сильного обезболивающего – большой, пусть и принятой единственно для подкрепления сил, дозы морфия.
– Он не очень хорошо себя чувствовал в тот день, – сказала Алиса, показав свои кошачьи зубки (белые и тонкие, как бумага). – Вернее, совсем не хорошо.
– Мм. Его работа требовала немалой траты сил.
– Он сказал мне: знаешь, старушка, я не в лучшей форме. Совсем раскис.
Прежде чем отправиться в Кранкенбау[31] за лекарством, штурмшарфюрер Зайссер зашел в «Калифорнию», дабы уворовать там необходимые для его оплаты деньги. А покончив с тем и с другим, вернулся к своему посту на южном краю женского лагеря. Когда он подходил к картофельному складу (в надежде, быть может, передохнуть в тишине и покое), две заключенные покинули строй и побежали к ограде лагеря (форма самоубийства, на удивление редкая), и Зайссер, наведя на них автомат, отважно открыл огонь.
– Печальное стечение обстоятельств, – заметил я.
Поскольку отдача оружия застала Орбарта врасплох (как, несомненно, и сила принятого им наркотика), он, пошатываясь, отступил на пару шагов и, все еще поливая заключенных пулями, повалился на ограду, находившуюся под высоким напряжением.
– Трагедия, – сказала Алиса.
– Остается лишь надеяться, госпожа Зайссер, что с ходом времени…
– Да. Время лечит любые раны, мой господин. Во всяком случае, так говорят.
Наконец чаши с супом убрали и принесли главное блюдо – густую, бордовую тушеную говядину.
Ханна вернулась за стол, как раз когда Долль добрался до середины анекдота, связанного с состоявшимся семью неделями раньше (в середине июля) посещением лагеря Рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером.
– Я отвез нашего высокопоставленного гостя на кроличью селекционную станцию в Дворах. Настоятельно советую вам заглянуть туда, фрау Зидиг. Роскошные ангорские кролики, белые и пушистые до того, что дальше и некуда. Мы их, знаете ли, сотнями разводим. Ради их меха, не так ли? Который согревает наши летные экипажи во время выполнения заданий! Там был один особенный экземпляр по кличке Снежок, – физиономия Долля начала расплываться в плотоядной ухмылке, – красавец совершеннейший. А доктор из заключенных – впрочем, что это я? – ветеринар из заключенных обучил его всяким кунштюкам. – Долль нахмурился (и поморщился, и болезненно улыбнулся). – Вернее, кунштюк был всего один. Но какой! Снежок садился на задние лапки, а передние выставлял, знаете, вот так и просил подаяние, – его научили просить подаяние!
– Полагаю, наш высокопоставленный гость был должным образом очарован? – осведомился Зюльц. (Почетный полковник СС Зюльц обладал, что вообще не редкость у медиков определенного склада, словно бы неподвластной времени физиономией.) – Его это развеселило?
– О, Рейхсфюрер пришел в совершенный восторг. Разулыбался от уха до уха – и захлопал в ладоши! И свита его, знаете ли, тоже захлопала. А все благодаря Снежку. Тот, судя по всему, испугался, но попрошайничать не перестал!
Разумеется, в присутствии дам мы, как истинные джентльмены, старались не упоминать о военных усилиях (и о здешней их составляющей – строительстве «Буна-Верке»). За все это время я ни разу не встретился с Ханной глазами, однако взгляды, которыми я обводил сидящих за столом, время от времени проскальзывали по ее освещенному свечами лицу (а ее взгляды – по моему)… Обсудив искусство правильного ведения сельского хозяйства, мы перешли к иным темам – целительным травам, скрещиванию овощных культур, менделизму, спорному учению советского агронома Трофима Лысенко.
– Жаль, что лишь немногие знают, – сказал профессор Зюльц, – о выдающихся достижениях Рейхсфюрера в области этнологии. Я говорю о его работе в Аненербе.
– Безусловно, – согласился Долль. – Он собрал там целые команды антропологов и археологов.
– Рунологов, геральдистов и кого угодно.
– Экспедиции в Месопотамию, Анды, Тибет.
– Компетентность, – сказал Зюльц. – Высокая мыслительная способность. Они-то и сделали нас хозяевами Европы. Прикладная логика – вся соль в ней. Никакой мистики тут нет. Знаете, я все гадаю, существовали когда-нибудь руководители государства, да, собственно, и все, кто состоит в управленческой цепочке, столь же интеллектуально развитые, как наши?
– Коэффициент интеллекта, – согласился Долль. – Умственные способности. Здесь тоже нет никакой мистики.
– Вчера утром я наводил порядок на моем столе, – продолжал Зюльц, – и наткнулся на два соединенных скрепкой меморандума. Вот послушайте. Из двадцати пяти командиров айнзацгрупп[32], которые работают в Польше и России, – а работа у них тяжелая, уверяю вас, – пятнадцать обладают докторской степенью. А теперь возьмите январскую конференцию государственных попечителей. Пятнадцать присутствующих, так? Восемь докторов.
– Что это была за конференция? – спросил Свитберт Зидиг.
– Она состоялась в Берлине, – ответил капитан Уль. – В Ванзее. Цель – утверждение…
– Утверждение окончательного плана эвакуации, – сказал Долль, задирая подбородок и складывая губы трубочкой, – освобожденных восточных территорий.
– «За Бугом», – сказал Дрого Уль и коротко всхрапнул.
– Восемь докторов, – повторил профессор Зюльц. – Ну хорошо, конференцию созвал и председательствовал на ней Гейдрих, мир праху его. Но помимо Гейдриха в ней участвовали должностные лица второго и даже третьего ранга. И тем не менее. Восемь докторов. Какая мощная команда. Вот так и вырабатываются оптимальные решения.
– Кто там присутствовал? – осведомился Долль, коротко взглянув на свои ногти. – Гейдрих. А кто еще? Ланг. Мюллер из Гестапо. Эйхман – знаменитый начальник вокзала. С его вечным пюпитром и свистком.
– О чем я и говорю, Пауль. Команда, обладающая интеллектуальной мощью. Первоклассные решения на всех уровнях власти.
– Дорогой мой Болдемар, в Ванзее никто ничего не «решал». Там всего лишь механически утвердили решение, принятое несколькими месяцами раньше. И принятое на самом высоком уровне.
Настало время подкинуть им мою тему, приковать к ней внимание. При сложившейся у нас политической системе каждый быстро понимает, что там, где начинается секретность, там начинается и власть. Ну а власть развращает, и это отнюдь не метафора. Однако, по счастью (для меня), власть притягивает – и это тоже не метафора. Моя приближенность к власти давала мне массу сексуальных преимуществ. В военное время женщины с особой силой чувствуют ее гравитационное притяжение; они нуждаются во всех своих друзьях и поклонниках, во всех защитниках. И я сказал, немного насмешливо:
– Майор, могу я рассказать о паре моментов, не получивших широкой огласки?
Долль слегка подпрыгнул в кресле и сказал:
– О да, прошу вас.
– Спасибо. Эта конференция была своего рода экспериментом, пробным шаром. И председательствующий предвидел серьезные затруднения. Однако все свелось к успеху, настолько большому и неожиданному, что Гейдрих, Рейхспротектор Рейнхард Гейдрих, потребовал сигару и бокал бренди. В середине дня. Гейдрих, который обычно пил в одиночестве. Получив бренди, он уселся у камина. А маленький билетный компостер Эйхман свернулся в клубочек у его ног.
– Вы там были?
Я вяло пожал плечами. А также наклонился вперед и в виде опыта засунул ладонь между колен Алисы Зайссер; и колени ее сжались, а рука легла на мою, что позволило мне сделать еще одно открытие: в добавление к прочим ее горестям Алиса была до смерти перепугана. Все ее тело дрожало.
Долль сказал:
– Вы были там? Или это слишком низкий для вас уровень? – Он дожевал что-то, проглотил. – Вы, несомненно, услышали все от вашего дяди Мартина.
Взгляд его черных глаз пробежался по сидящим за столом.
– От Бормана, – звучно сообщил он. – Рейхсляйтера… Я знавал вашего дядю Мартина, Томсен. В пору борьбы, когда мы были пылкими фанатиками.
Для меня это оказалось новостью, тем не менее я сказал:
– Да, мой господин. Он часто вспоминает вас и дружбу, которая доставляла вам обоим такую радость.
– Передайте ему мои наилучшие пожелания. И, э-э, прошу вас, продолжайте.
– На чем я остановился? Ах да. Гейдриху хотелось закинуть удочку. Посмотреть…
– Это вы об озере Ванзее? Так оно же замерзло к чертовой матери.
– Свитберт, прошу вас, – сказал Долль. – Герр Томсен.
– Закинуть удочку, посмотреть, не воспротивится ли государственный аппарат тому, что может показаться затеей несколько амбициозной, – распространению нашей окончательной расовой стратегии на всю Европу.
– И?
– Как я уже сказал, все прошло неожиданно гладко. Не воспротивился никто. Ни один человек.
Зюльц спросил:
– Что же в этом неожиданного?
– А вы вспомните о масштабах, профессор. Испания, Англия, Португалия, Ирландия. И о цифрах. Десять миллионов. Возможно, двенадцать.
Сидевшая, развалившись, слева от меня Норберта Уль уронила вилку на тарелку и пролепетала:
– Они же всего-навсего евреи.
Теперь стали слышны причмокивания и глотки двух штатских (Беркль методично выхлебывал из ложки соус, Зидиг прополаскивал рот «Нюи-Сен-Жорж»). Все остальные жевать перестали, и я почувствовал, что не только мое внимание приковано к Дрого Улю, который, приоткрыв рот, описал головой восьмерку. А описав, оскалил верхние зубы и сказал Зюльцу:
– Нет-нет, не будем заводиться, верно? Будем снисходительны. Эта женщина ничего не понимает. Всего-навсего евреи?
– «Всего-навсего евреи», – печально согласился с ним Долль (он с мудрым видом складывал салфетку). – Замечание несколько загадочное, не так ли, профессор, если учесть, что в Рейхе их пришлось полностью обезвреживать?
– Вы правы, весьма загадочное.
– Мы никогда не считали это легким делом, мадам. И понимаем, полагаю я, что стоит на кону.
Зюльц сказал:
– Да. Видите ли, госпожа Уль, они особенно опасны тем, что давным-давно поняли коренной биологический принцип. Расовая чистота равна расовому могуществу.
– Их вы на межрасовом скрещивании не поймаете, – добавил Долль. – О нет. Они уяснили его недопустимость задолго до нас.
– Что и делает их столь опасным врагом, – сказал Уль. – И жестоким. Мой Бог. Прошу прощения, дамы, вам этого лучше не слышать, однако…
– Они сдирают кожу с наших раненых.
– Бомбят наши госпиталя.
– Торпедируют наши спасательные шлюпки.
– Они…
Я посмотрел на Ханну. Сжав губы, она хмуро вглядывалась в свои лежащие на скатерти ладони – длинные пальцы ее медленно сцеплялись, сплетались и расплетались, как будто она промывала их под краном.
– И такое веками происходило по всей планете, – сказал Долль. – У нас имеются доказательства. Имеются их официальные документы!
– «Протоколы сионских мудрецов», – мрачно сообщил Уль.
Я сказал:
– Но право же, Комендант. Сколько я знаю, есть люди, у которых «Протоколы» вызывают сомнения.
– О да, есть, – ответил Долль. – Таких я отсылаю к «Моей Борьбе» с ее блестящим доводом. Слово в слово я это место не припомню, но суть такова. Э-э… Лондонская «Таймс» снова и снова называет этот документ фальшивкой. И одно лишь это доказывает его подлинность… Потрясающе, нет? Абсолютно неопровержимо.
– Да. Каждому следует зарубить это себе на носу! – согласился Зюльц.
– Они кровопийцы, – сказала супруга Зюльца, Трудель. – Совсем как клопы.
Ханна спросила:
– Можно я скажу?
Долль уставился на нее глазами разбойника с большой дороги.
– Об основном их свойстве, – сказала она. – Отрицать его невозможно. Я говорю о таланте по части жульничества. И жадности. Их даже малый ребенок видит. – Ханна мерно вдыхала и выдыхала. – Они обещают вам златые горы, улыбаются, водят вас за нос. А потом отнимают все, что у вас есть.
Не причудилось ли мне? Вроде бы обычные для образцовой супруги офицера СС слова, но в свете свечей они почему-то показались двусмысленными.
– Все это неоспоримо, Ханна, – сказал явно озадаченный Зюльц. Затем лицо его прояснилось. – Впрочем, теперь нам удалось попотчевать еврея его же зельем.
– Теперь перевес на нашей стороне, – согласился Уль.
– Теперь мы платим еврею его же монетой, – сказал Долль. – И ему уже не до смеха – у него слез не хватает. Нет, госпожа Уль. Мы никогда не считали это легким делом, мадам. И понимаем, полагаю я, что стоит на кону.
Когда по столу расставили салаты, сыр, фрукты, пирожные, кофе, портвейн и шнапс, Ханна отправилась наверх с третьим визитом.
– Они уже валятся, точно кегли, – говорил тем временем Долль. – Фронтовики едва ли не стыдятся принимать денежное довольствие, так легко они продвигаются. – Он поднял похожий на большую луковицу кулак и начал разгибать пальцы: – Севастополь. Воронеж. Харьков. Ростов.
– Да, – сказал Уль, – а то ли еще будет, когда мы прорвемся за Волгу. Сталинград мы разбомбили дотла. И взять его будет проще простого.
– Вы, друзья мои, – Долль обратился ко мне, Зидигу и Берклю, – можете спокойно собрать вещички и разъехаться по домам. Ладно, ваша резина нам все еще нужна. Но не ваше топливо. К чему оно, если мы получаем нефтяные промыслы Кавказа? Ну что? Отшлепала ты их наконец?
Вопрос был обращен к Ханне, которая, пригнувшись, чтобы не зацепить макушкой притолоку, выступила из сумрака за дверью в шаткий свет свечей. Усевшись, она сказала:
– Девочки спят.
– Хвала Господу и всем ангелам его! Они уже допекли меня этой чертовой чушью. – Долль снова повернулся к нам и сказал: – К концу года жидо-большевизм будет разгромлен. И придет черед американцев.
– Их вооруженные силы безнадежны, – сообщил Уль. – Шестнадцать дивизий. Примерно как у Болгарии. А сколько бомбардировщиков B-17? Девятнадцать. Анекдот, да и только.
– Во время маневров, – сказал Зюльц, – они гоняют грузовики с надписью «танк» на бортах.
– Америка никакой погоды не делает, – заявил Уль. – Это пустое место. От нее ничто не зависит.
Фритурик Беркль, по большей части молчавший, негромко произнес:
– Все это сильно отличается от опыта, приобретенного нами во время Великой войны. Прежде всего, наша экономика работает в полную силу…
Я сказал:
– О, кстати. Вам это известно, майор? В тот же январский день в Берлине состоялась еще одна конференция. Под председательством Фрица Тодта. Тема: вооружение. Реорганизация экономики. Подготовка к дальним перевозкам.
– Пораженческие настроения! – усмехнулся Долль. – Попытка подорвать нашу оборонную мощь.
– Ничего подобного, мой господин, – усмехнулся в ответ я. – Армия Германии. Армия Германии подобна природной стихии – она необорима. Однако ее необходимо оснащать и снабжать. И тут главная помеха – недостаток рабочей силы.
– Поскольку заводы пустеют, – сказал Беркль, – а на рабочих надевают солдатскую форму. – Он сложил на груди короткие толстые руки и перекрестил ноги. – Во всех кампаниях сорокового мы потеряли сто тысяч солдат. Сейчас теряем в Остланде по тридцать тысяч в месяц.
Я сказал:
– По шестьдесят. Тридцать – это официальная цифра. На деле шестьдесят. Следует быть реалистом. Основа национал-социализма – прикладная логика. Как вы сказали, никакой мистики в нем нет. И потому, мой Комендант, нельзя ли мне внести спорное предложение?
– Хорошо. Мы слушаем.
– У нас имеется неиспользованный источник рабочей силы – двадцать миллионов человек. Здесь, в Рейхе.
– Где же?
– По обе стороны от вас, мой господин. Женщины. Работницы.
– Невозможно, – самодовольно заявил Долль. – Женщины и война? Это бросает вызов самым дорогим нашему сердцу убеждениям.
Зюльц, Уль и Зидиг что-то забормотали, соглашаясь.
Я ответил:
– Знаю. Но все остальные используют их. Англосаксы. Русские.
– Тем больше у нас причин не делать этого, – заявил Долль. – Не собираетесь же вы обратить мою жену в какую-нибудь роющую траншеи потную Ольгу.
– Они способны на большее, чем рытье траншей, майор. Батареи, зенитные батареи, которые удерживали танки Хубе к северу от Сталинграда и стояли там насмерть, были женскими. Студентки, девушки… – Я потискал напоследок бедро Алисы, поднял перед собой руки и, усмехнувшись, сказал: – Я чересчур опрометчив. И слишком болтлив. Прошу вас всех простить меня. Мой дорогой дядя Мартин – большой любитель поговорить по телефону, и под конец дня у меня эти разговоры уже из ушей лезут. Или изо рта. Но все же, как вы относитесь к этому, дамы?
– К чему? – спросил Долль.
– К военной службе.
Долль встал:
– Не отвечайте. Пора разлучить его с вами. Нельзя позволить, чтобы этот «интеллектуал» совращал наших женщин! Ну-с. В моем доме мужчины после обеда уединяются. Не в гостиной, но в моем любимом кабинете. Там нас ожидают сигары, коньяк и серьезный разговор о войне. Господа – если вы не возражаете.
* * *
Снаружи в ночи ощущалось то, о чем я был наслышан, но чего покамест не испытал, – силезское умение устраивать зимы. А ведь было всего только третье сентября. Я стоял, застегивая шинель, на крыльце, под фонарем, словно заимствованным из каретного сарая.
В тесном кабинете Долля все, кроме меня и Беркля, громогласно рассуждали о чудесах, сотворенных японцами на Тихом океане (о победах в Малайе, Бирме, Британском Борнео, Гонконге, Сингапуре, Маниле, на полуострове Батаан, Соломоновых островах, Суматре, в Корее и Западном Китае), и нахваливали военное искусство генералов Сёдзиро Иида, Масахару Хомма, Хитоси Имамура, Сэйсиро Итагаки. Был и антракт потише, во время которого я спокойно согласился с тем, что склеротическим империям и нерешительным демократиям невозможно тягаться с набирающими силу расовыми аристократиями Оси. Затем все опять зашумели, обсуждая предстоящие вторжения в Турцию, Персию, Индию, Австралию и (ни больше ни меньше) Бразилию…
В какой-то момент я ощутил на себе взгляд Долля. Все неожиданно смолкли, и Долль сказал:
– А он немного смахивает на Гейдриха, нет? Сходство присутствует.
– Вы не первый, кто отмечает его, мой господин.
Помимо Геринга, который мог быть и бюргером из «Будденброков»[33], и Риббентропа, бывшего торговца шампанским, изображающего аристократа (в Лондоне, когда он состоял там в послах, но появлялся не часто, его прозвали Летучим Арийцем), Рейнхард Гейдрих был единственным видным нацистом, способным сойти за чистого тевтона, все прочие несли в себе обычную балтийско-альпийско-дунайскую закваску.
– Гейдрих не вылезал из судов, в которых отстаивал древность своего рода, – сказал я. – Однако все эти слухи о нем, гауптштурмфюрер, совершенно безосновательны.
Долль улыбнулся:
– Будем надеяться, наш Томсен избежит ранней смерти, которая постигла Протектора[34]. – А затем, возвысив голос, продолжил: – Уинстон Черчилль вот-вот уйдет в отставку. У него нет выбора. Его сменит Иден, который хотя бы меньше лебезит перед евреями. Вам известно, что когда солдаты Вермахта вернутся с Волги и из того, что останется от Москвы и Ленинграда, то на границе страны их разоружат войска СС? И после этого мы станем…
Зазвонил телефон. Ему и следовало зазвонить в одиннадцать: я заранее договорился об этом с Берлином, с одной из секретарш Секретаря[35] (девушкой услужливой, бывшей когда-то давно моей любовницей). Пока я говорил и слушал, все молчали.
– Спасибо, госпожа Дельмот. Передайте Рейхсляйтеру, что я все понял. – Я положил трубку. – Прошу прощения, господа. Вам придется извинить меня. В мою квартиру в Старом Городе вот-вот нагрянет курьер. Я должен принять его.
– Нет покоя нечестивым[36], – сказал Долль.
– Никакого, – согласился я и откланялся.
В гостиной лежала на софе, точно упавшее пугало, Норберта Уль, рядом с ней расположилась Амаласанда Беркль. Алиса Зайссер сидела, глядя перед собой, на низкой деревянной скамье в компании Трудель Зюльц и Ромгильды Зидиг. Ханна Долль только что поднялась наверх и уже не вернется. Я сообщил, ни к кому в частности не обращаясь, что вынужден уйти, и ушел, задержавшись на минуту-другую в коридоре, у изножья лестницы. Далекий рокот наполняемой ванны; шаги чуть-чуть прилипавших к полу босых ступней; покрякиванье скандализированных половиц.
Выйдя в сад перед домом, я обернулся и посмотрел вверх. Я надеялся увидеть в окне второго этажа голую или полуголую Ханну, глядящую на меня, приоткрыв рот (или с силой затягиваясь «Давыдофф»), однако надежда моя оказалась обманутой. Только задернутые шторы из какого-то меха или шкуры и прямоугольник света на них. И я пошел восвояси.
Мимо меня проплывали разделенные стометровыми интервалами дуговые лампы. Огромные черные мухи покрывали, как мех, их сетчатые колпаки. Да, и летучая мышь проносилась поперек кремовой линзы луны. Из Офицерского клуба – полагаю, оттуда – долетали благодаря хитрой акустике Кат-Зет звуки популярной песенки «Прощаясь, тихо скажи “пока”». А кроме того, я услышал шаги за своей спиной – и оглянулся.
Почти ежечасно ты чувствуешь здесь, что живешь посреди огромного, но переполненного сумасшедшего дома. Ребенок неразличимого пола, одетый в ночную рубашку до земли, быстро приближался ко мне – да, быстро, слишком быстро, все они передвигаются слишком быстро.
Маленькая фигурка вступила в поток света. Гумилия.
– Вот, – сказала она и протянула мне голубой конверт. – От мадам.
А потом развернулась и торопливо ушла.
Я столько страдала… Мне больше не по силам… Ныне я должна… Порою женщина… Мои груди начинают болеть, когда я… Ждите меня в… Я приду в вашу…
Перебирая эти мечтания, я вышагивал еще двадцать минут – вдоль внешней ограды «Зоны интересов», затем по пустынным улочкам Старого Города – и наконец достиг площади с серой статуей и чугунной скамейкой под гнутым фонарным столбом. Там я присел и прочитал.
* * *
– Ну и угадай, что она сделала, – сказал капитан Эльц. – Эстер.
Борис вошел в мою квартиру, открыв дверь собственным ключом, и теперь расхаживал по гостиной с сигаретой в одной руке, но без полного стакана спиртного в другой. Он был трезв, встревожен, сосредоточен.
– Помнишь открытку? С ума она, что ли, сошла?
– Погоди. Что случилось?
– Вся та чушь о хорошей еде, чистоте и ваннах. Она не написала о них ни слова. – И с негодованием (вызванным размерами и решительностью поступка Эстер) Борис продолжил: – Она написала, что мы – свора лживых убийц! Да еще и уточнила. Орава вороватых крыс, ведьм и козлов. Вампиров и кладбищенских мародеров.
– И все это пошло в Службу почтовой цензуры?
– Конечно, пошло. В конверте с двумя именами на нем – моим и ее. Что она себе думала? Что я просто опущу его в почтовый ящик?
– А теперь она снова лопатит дерьмо растворной доской?
– Нет, Голо. Это преступление, да еще и политическое. Саботаж. – Борис наклонился вперед: – Попав к Кат-Зет, Эстер дала себе обещание. Она поведала мне о нем. Сказала себе: «Мне здесь не нравится, я не собираюсь здесь умирать…» Потому она так себя и ведет.
– Так где же она сейчас?
– Ее бросили в одиннадцатый бункер. Первым делом я подумал: надо доставить ей туда немного воды и еды. Этой ночью. Но теперь полагаю, что это пойдет ей на пользу. Пусть посидит пару дней. Получит хороший урок.
– Выпей, Борис.
– Выпью.
– Шнапса? Что там делают с заключенными, в одиннадцатом бункере?
– Спасибо. Ничего. В том-то весь и фокус. Мебиус говорит так: мы просто предоставляем природе делать свое дело. А кто решился бы путаться под ногами у природы, мм? В среднем они протягивают там две недели, если молоды. – Он вгляделся в мое лицо: – У тебя подавленный вид, Голо. Ханна отказала тебе?
– Нет-нет. Продолжай. Эстер. Как нам вытащить ее оттуда?
И я сделал над собой необходимое усилие, попытался проникнуться должным интересом к вопросу жизни и смерти.
25
Выражение И. Канта из «Лекции о педагогике».
26
Лагерь военнопленных.
27
Свинство (фр.).
28
На самом деле место это в Аушвице называлось «Канада».
29
Коктейль из сухого вина и черносмородинового ликера.
30
Гуртом (фр.).
31
Haftlinge Krankenbau – лазарет лагеря Аушвиц I.
32
Военизированные эскадроны смерти, осуществлявшие массовые убийства гражданских лиц на оккупированных Германией территориях.
33
Роман Томаса Манна.
34
Рейнхард Гейдрих по прозвищу Пражский палач, «изобретатель» Холокоста, был назначен протектором Богемии и Моравии, умер в результате ранения, которое получил во время операции «Антропоид», осуществленной в Праге двумя офицерами Чехословацкой армии.
35
С 12 апреля 1942-го Борман состоял личным секретарем фюрера.
36
Парафраз библейской цитаты «Нечестивым же нет мира» (Исаия, 48:22).