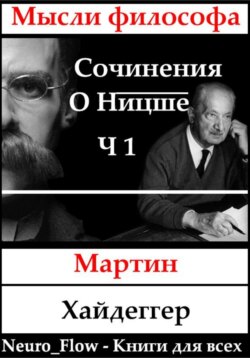Читать книгу Сочинения о Ницше часть 1 – «Заратустра» как феномен в мировой философии - Мартин Хайдеггер - Страница 10
Идеалистическое толкование
ницшевского учения о воле к власти
ОглавлениеИтак, мы переходим ко второму из двух поставленных выше вопросов. Он звучит так: что понимают под идеализмом, когда считают, что ницшевское понятие воли не имеет ничего общего с «идеалистическим» понятием?
Вообще «идеалистическим» можно назвать способ рассмотрения, обращенный к идеям. При этом «идея» означает то же, что и представление. Представлять же значит смотреть в широком смысле: ίδείν. В какой мере прояснение сущности воли дает возможность усмотреть в ней черты представления?
Воление есть род вожделения и стремления. Греки называют это όρεξις; в Средние века и Новое время появились термины appetitus и inclinatio. Простым стремлением и влекомостью, является, например, голод как влечение к пище и ее домогательство. Само это влечение как таковое не дает покоя животному, и не обязательно, что оно при этом нечто видит; животное не представляет эту пищу как таковую и стремится к ней не как к пропитанию. Стремление не знает, чего оно волит, потому что оно вообще не волит, и все-таки оно устремляется к своему предмету, хотя никогда – к нему как таковому. Тем не менее воля как стремление не является слепым порывом. Вожделенное, предмет устремленности как таковой со-представляется, со-присутствует во взоре, предстает как со-воспринимаемый, со-выслушиваемый.
Брать что-либо в представлении и размышлять над этим по-гречески означает νοείν. Предмет устремления, όρεκτόν, в волении одновременно предстает как представимое, νοητόν. Однако это никогда не означает, что воление и есть представление – в том смысле, что к представляемому просто добавляется стремление к самому предмету представления: как раз наоборот. В качестве ясного подтверждения этому можно привести слова Аристотеля из его трактата «О душе», περί ψυχής.
Переводя греческое ψυχή словом «душа», мы не должны думать о душевном в смысле каких-либо переживаний, думать о том, что осознается в «ego cogito», а также о «бессознательном». У Аристотеля ψυχή подразумевает принцип живого как такового, подразумевает то, что делает живое живым и властно проникает его сущность. В упомянутом трактате обсуждается сущность жизни и ступени живого.
В нем нет ни психологии, ни биологии. В данном трактате содержится метафизика живого, к которому принадлежит и человек. Живое есть движущее себя через себя самого, самодвижущееся. Здесь под движением подразумевается не только перемена места, но и всякое самоизменение и действие. Высшая ступень живого – человек, а основной способ его самодвижения – действие, πράξις. Возникает вопрос: каково определяющее начало, какова άρχή этого действия, то есть продуманного действования и осуществления? Что в нем является определяющим: представляемое как таковое или сам предмет устремлений? Чем определяется представляющее стремление: представлением или вожделением? Иначе говоря: является ли воля представлением – и тем самым определяется идеей – или нет? Когда говорят, что воля в своей сущности есть представление, такое учение о воле называется «идеалистическим».
Что говорит о воле Аристотель? В десятой главе третьей книги речь идет об όρεξις, вожделении. Здесь в частности говорится (433а 15 и след): καί ή όρεξις ένεκά του πάσα οϋ γάρ ή όρεξις, αϋτη άρχή τοΰ πρακτικοΰ νοΰ τό δ έσχατον άρχή τής πράξεως. Ώστε εύλόγως δύο ταΰτα φαίνεται τά κινοΰντα, όρεξις καί διάνοια πρακτική τό όρεκτόν γάρ κινεί, καί διά τοΰτο ή διάνοια κινεί, ότι άρχή αύτής έστι τό όρεκτόν. «Всякое вожделение также имеет цель, а то, к чему имеется вожделение, есть то самое, откуда определяется размышляющий разум как таковой; последнее и есть то, из чего определяется действие. Поэтому вполне обоснованно эти две способности очерчиваются как движущие: вожделение и размышляющий разум, ибо в вожделении движет вожделенное, а разум, представление, движет лишь потому, что в вожделении представляет вожделенное».
Такое понимание воли стало определяющим для всего западноевропейского мышления, и по сей день оно достаточно распространено. В Средние века voluntas предстает как appetitis intellectualis, то есть όρεξις διανοητική, вожделение, к которому принадлежит сообразующееся с разумом представление. Для Лейбница agere, действие, perceptio и appetitis существуют в единстве; perceptio есть ίδέα, представление. Для Канта воля представляет собой ту способность вожделения, которая действует сообразно пониманию, то есть так, что при этом само волимое как в общем и целом представляемое является определяющим для действия. Однако хотя представление отличает волю как способность вожделения от просто слепого стремления, само оно в воле не выступает как подлинно движущее и волящее. Лишь такое понимание воли, которое необоснованно делает представление (ίδέα) первенствующим, можно было бы охарактеризовать как идеалистическое. Такое понимание действительно встречается. В Средние века к такому истолкованию воли склоняется Фома Аквинский, хотя и тут вопрос не решается однозначно. Надо сказать, что в целом великие мыслители в понимании воли никогда не отдавали предпочтения представлению.
Если под идеалистическим истолкованием воли мы понимаем такой подход, при котором подчеркивается, что вообще представление как таковое, мышление, знание, понятие существенным образом принадлежат воле, тогда, конечно, толкование воли, предлагаемое Аристотелем, идеалистично, равно как и толкования Лейбница, Канта и, наконец, самого Ницше. Доказательство тому легко представить: достаточно до конца прочитать то место, где Ницше говорит, что воля состоит из множества чувств:
«Как чувства, причем, самые разные, надо признать неотъемлемой частью воли, так, во-вторых, надо отнестись и к мыслям: в каждом волевом акте есть одна направляющая мысль, и ни в коем случае нельзя думать, что мы можем отделить эту мысль от „воления" и при этом якобы еще останется воля!» (VII, 29).
Сказано вполне ясно, причем не только в адрес Шопенгауэра, но и всех тех, кто любит ссылаться на Ницше, ополчаясь против мышления и власти понятия.
Непонятно, как, имея в виду эти вполне ясные высказывания, можно все-таки не склоняться к идеалистическому толкованию его учения о воле. Принято считать, что ницшевское понимание воли не имеет ничего общего с ее толкованием в немецком идеализме. Однако и туда переходит кантовское и аристотелевское понятие воли. Для Гегеля знание и воление – одно и то же. Это означает, что истинное знание уже предстает как действие, а действие есть лишь знание. Шеллинг даже говорит, что подлинно волящее в воле есть разум. Разве это не вполне законченный идеализм, если под ним понимать сведение воли к представлению? Однако тот же Шеллинг, будучи слишком категоричным в своих словах, хочет подчеркнуть как раз то, что в воле выделяет и Ницше, когда говорит, что воля есть повеление: ведь когда Шеллинг говорит о «разуме», а прочий немецкий идеализм – о знании, речь идет не о способности представления, как считает психология, не о действовании, которое лишь созерцательным образом сопутствует прочим проявлениям душевной жизни. Знание означает открытость бытию, которое есть воление, а на языке Ницше – «аффект». Сам Ницше говорит так: «Воление есть повеление: повеление же есть некийаффект (представляющий собой внезапный выброс силы) – напряженный, ясный, устремленный лишь к одному, глубочайшая убежденность в превосходстве, уверенность, которой повинуются» (XIII, 264). Ясно, напряженно, сосредоточенно устремляться к чему-либо есть не что иное, как – в самом строгом смысле слова – пред-держать что-то перед собою, пред-ставлять его себе; разум, говорит Кант, есть способность представления.
Никакое обозначение воли не встречается у Ницше так часто, как только что названное: воление есть повеление; в воле сокрыта повелевающая мысль; в то же время никакое другое понимание воли не может так решительно подчеркнуть и существенность (Wesentlichkeit) знания и представления, существенность разума в воле, как это.
Поэтому если мы хотим как можно ближе подойти к ницшевскому пониманию воли и остаться при нем, нам лучше держаться подальше от всех прочих ее наименований. Называть же это понимание идеалистическим или неидеалистическим, предполагающим эмоцию или биологическим, рациональным или иррациональным значит каждый раз искажать суть дела.