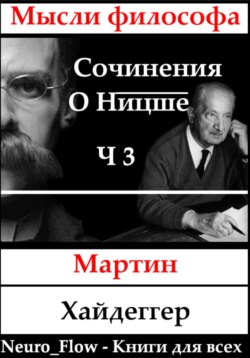Читать книгу Сочинения о Ницше часть 3 – Сверхчеловек и метафизика - Мартин Хайдеггер - Страница 6
Космология и психология у Ницше
ОглавлениеРассмотренная нами запись (n. 20) впервые знакомит нас с нигилистически осмысленной сущностью нигилизма, а также указывает направление, в котором Ницше его осмысляет. Нигилизм есть процесс обесценения высших Ценностей. Он является внутренней обоснованностью, законностью этого процесса, той «логикой», в соответствии с которой совершается крушение высших ценностей сообразно ее сущности. Но на чем основывается сама эта законность?
Для того чтобы получить самое первое представление о ницшевском понятии нигилизма как обесценении высших ценностей, необходимо разобраться в том, что подразумевается под высшими ценностями, в какой мере они содержат в себе истолкование сущего, почему дело с необходимостью приходит к этому ценностному его истолкованию и какая перемена совершается в метафизике благодаря этому истолкованию. Ответы на эти вопросы мы получим, дав необходимые разъяснения отрывку под номером 12 (XV, 148-151; Nov. 1887-März 1888).
Отрывок озаглавлен как «Падение космологических ценностей», разделен на две неравные по объему части А и Ви снабжен заключительным примечанием. Раздел А гласит:
«Нигилизм как психологическое состояние должен будет наступить, во-первых, после поисков „смысла" во всем совершающемся, которого в нем нет, в результате чего ищущий, в конце концов, падает духом. Тогда нигилизм предстает как осознание долгой траты сил, как мука „тщетности", неуверенность, отсутствие возможности как-нибудь отдохнуть, на чем-нибудь еще успокоиться – как стыд перед самим собою, как будто самого себя слишком долго обманывал… Этот смысл мог бы заключаться в следующем: „осуществление" некоего высшего нравственного канона во всем совершающемся, нравственный миропорядок; или рост любви и гармонии в общении живых существ; или приближение к состоянию всеобщего счастья; или хотя бы устремление к состоянию всеобщего „ничто" – цель сама по себе все еще есть некоторый смысл. Общее для всех этих видов представлений заключается в понимании того, что нечто должно быть достигнуто самим процессом: но вот наступает сознание, что становлением ничего не достигается, ничего не обретается… Следовательно, разочарование в мнимой цели становления как причина нигилизма: разочарование по отношению к вполне определенной цели или вообще сознание несостоятельности всех доныне существующих гипотез цели, вбирающих в себя весь путь „развития" (человек больше несотрудник, не говоря уже о том, чтобы он был средоточием всякого становления).
Нигилизм как психологическое состояние наступает, во-вторых, тогда, когда во всем совершающемся и подо всем совершающимся предполагается некая цельность, систематизация, даже организация: так что душа, жаждущая восхищения и благоговения, упивается общим представлением некоторой высшей формы власти и управления (если это душа логики, то достаточно уже абсолютной последовательности и реальной диалектики, чтобы примирить ее со всем…). Какое-либо единство, какая либо форма „монизма": и как последствие этой веры – человек, чувствующий себя в тесной связи и глубокой зависимости от некоего бесконечно превышающего его целого, как бы modus божества… „Благо целого требует самопожертвования отдельного"… и вдруг такого „целого" нет! В сущности человек теряет веру в свою ценность, если через него не действует бесконечно ценное целое: иначе говоря, он создал такое целое, чтобы иметь возможность веровать в свою собственную ценность. Нигилизм как психологическое состояние имеет еще третью и последнюю форму. Если принять те два положения, что путем становления ничего не достигается и что под всем становлением не царствует такое великое единство, в котором индивид мог бы окончательно потонуть, как в стихии высшей ценности, то единственным исходом остается возможность осудить весь этот мир становления как марево и измыслить в качестве истинного мира новый мир, потусторонний нашему. Но как только человек распознает, что этот новый мир он соорудил лишь из психологических потребностей и что он на это не имел решительно никакого права, возникает последняя форма нигилизма, заключающая в себе неверие в метафизический мир, запрещающая себе веру в истинный мир. С этой точки зрения реальность становления признается единственной реальностью и воспрещаются всякого рода окольные пути к скрытым мирам и ложным божествам, но, с другой стороны, этот мир, отрицать который уже более не хотят, становится невыносимым… Что же в сущности произошло? Сознание отсутствия всякой ценностибыло достигнуто, когда стало ясно, что ни понятием „цели", ни понятием „единства", ни понятием „истины" не может быть истолкован общий характер бытия. Ничего этим не достигается и не приобретается; недостает всеобъемлющего единства во множестве совершающегося: характер бытия не „истинен", а ложен… В конце концов нет более основания убеждать себя в бытии истинного мира… Короче говоря: категории „цели", „единства", „бытия", посредством которых мы сообщили миру ценность, снова изымаются нами – и мир кажется обесцененным…».
Итак, согласно заголовку речь идет о падении «космологических» ценностей, и кажется, что тем самым называется некий особый класс ценностей, падение которых и составляет сущность нигилизма. В соответствии со школьным членением метафизики «космология» вбирает в себя особую сферу сущего, а именно «космос» в смысле «природы», Земли и небесных светил, растений и животных. От «космологии» отличается «психология» как учение о душе и духе и особенно о человеке как свободном разумном существе. Наряду с психологией и космологией, а также превышая их, о себе заявляет «теология», причем не как церковное истолкование библейского откровения, а как «рациональное» («естественное») истолкование библейского учения о Боге как первопричине всего сущего, природы и человека, его истории и ее свершений. Однако подобно тому как часто приводимое положение, согласно которому «anima naturaliter christiana», вовсе не является совершенно бесспорной «естественной» истиной, но, напротив, предстает как истина христианская, естественная теология обретает основание своей истины только в библейском учении о том, что человек сотворен Богом-Творцом, который и наделил его знанием о себе самом. Но поскольку естественная теология как философская дисциплина не может считать источником своих истин Ветхий Завет, ее содержание с необходимостью оскудевает до простого высказывания о том, что мир должен иметь первопричину. Тем самым, однако, вовсе не доказывается, что эта первопричина есть «Бог», если допустить, что Бога вообще можно свести до уровня предмета доказательства. Понять сущность этой рациональной теологии важно потому, что западноевропейская метафизика по своей природе теологична, причем даже там, где она отмежевывается от церковной теологии.
«Космология», «психология» и «теология» (или триада природы, человека и Бога) описывают ту сферу, в которой движется все западноевропейское представление (Vorstellen), когда оно осмысляет сущее в целом по способу метафизики. Поэтому, читая заголовок «Падение космологических ценностей», мы сразу можем предположить, что здесь Ницше из трех обычных областей «метафизики» особо выделяет область космологии, однако такое предположение неверно. В данном случае космос означает не «природу», в отличие от человека и Бога: «космос» означает здесь то же самое, что и «мир», а мир означает сущее в целом. «Космологические ценности» не представляют собой некий особый класс ценностей, соупорядоченный с другими ценностями или даже превосходящий их. Они определяют то, «к чему она [человеческая жизнь] принадлежит, „природу", „мир", всю сферу становления и непостоянства» («Zur Genealogie der Moral», VII, 425; 1887); они обозначают некое широчайшее кольцо, охватывающее все, что есть и становится. Вне их и над ними ничего нет. Нигилизм как обесценение высших ценностей есть падение космологическихценностей. В данном отрывке, если мы правильно понимаем его заголовок, речь идет о сущности нигилизма.
Раздел под буквой А распадается на четыре абзаца, причем четвертый подытоживает основное содержание трех первых, подытоживает то, что, собственно, означает падение космологических ценностей. Раздел под буквой В в перспективе указывает на важные результаты этого падения. Он показывает, что сам космос при этом не рушится: он только освобождается от оценки себя самого через прежние ценности и становится доступным для утверждения новых ценностей. Поэтому нигилизм ни в коем случае не ведет в ничто. Падение ценностей не есть одно лишь крушение. На то, что должно произойти, чтобы нигилизм привел к спасению и новому обретению сущего в целом, намекает итоговое замечание ко всему отрывку.
Три первые абзаца первого раздела начинаются одинаково – во всех трех говорится: «нигилизм как психологическое состояние»; и далее соответственно: «должен будет наступить», «наступает, во-вторых, тогда», «имеет еще третью и последнюю форму». Для Ницше нигилизм есть скрытый основной закон всей западноевропейской истории, но в этом отрывке он недвусмысленно определяет его как «психологическое состояние». Отсюда возникает вопрос о том, что он понимает под «психологическим» и «психологией». «Психология» для Ницше – не естественнонаучное, экспериментальное исследование душевных процессов, уже практиковавшееся в его время, смоделированное по образцу физики и связанное с физиологией: исследование, в ходе которого чувственные восприятия и их телесные условия определяются как основные элементы этих процессов по образцу химических элементов. Равным образом для него «психология» не означает и изучения «более высокой душевной жизни» и этапов ее развития в смысле исследования каких-то фактов среди прочих; не означает она и «характерологии» как учения о различных человеческих типах. Ницшевское понятие психологии можно было бы толковать как некую «антропологию», при условии что эта «антропология» означает философскоевопрошание о сущности человека в ракурсе его существенных отношений к сущему в целом. Тогда эта «антропология» предстает как «метафизика» человека, однако даже тогда мы не постигаем всей сути ницшевской «психологии» и «психологического». Его «психология» никоим образом не ограничивается человеком, но и не расширяется до одних лишь растений и животных. «Психология» есть вопрошание о «психическом», то есть о живом в смысле той жизни, которая определяет все становление в значении «воли к власти». Поскольку эта воля является основной особенностью всего сущего, а истина о сущем как таковом в его целом называется метафизикой, то ницшевская «психология» равнозначна метафизике. Тот факт, что метафизика становится «психологией», в которой «психология» человека, конечно, имеет явное преимущество, находит свое обоснование уже в самой сущности новоевропейской метафизики.
Эпоха, которую мы называем Новым временем и в завершение которой теперь начинает вступать западноевропейская история, определяется тем, что человек становится мерой и средоточием всего сущего. Человек находится в основе всего сущего, то есть в основе всякого опредмечивания (Vergegenständlichung) и всякой представимости (Vorstellbarkeit): он есть subiectum. Как бы резко Ницше ни выступал против Декарта, философия которого лежит в основе всей новоевропейской метафизики, он выступает против него только потому, что Декарт ещене утвердил человека окончательно и достаточно решительно как subiectum. Представление субъекта как ego, как «Я», то есть, так сказать, «эгоистическое» истолкование, для Ницше оказывается еще не достаточно субъективистским. Только в учении о сверхчеловеке как учении о безусловном первенстве человека во всем сущем метафизика Нового времени достигает предельного и совершенного определения своей сущности. В этом учении Декарт празднует свой наивысший триумф.
Так как в человеке, а точнее в сверхчеловеке, воля к власти без каких-либо ограничений раскрывает свою чистую властную сущность, «психология» в смысле Ницше, то есть как учение о воле к власти, есть одновременно и прежде всего область основных метафизических вопросов. Поэтому в работе «По ту сторону добра и зла» Ницше говорит: «До сего дня вся психология не могла отделаться от моральных предрассудков и опасений: она не дерзала проникнуть вглубь. Понимать ее как морфологию и учение о развитии воли к власти, как я ее понимаю,– об этом никто еще даже и не задумывался». В конце этого раздела Ницше говорит о необходимости требовать, чтобы «психологию снова признали властительницей наук, для служения и подготовки которой существуют другие науки. Ибо отныне психология снова стала путем к основным проблемам» (VII, 35 ff.). Мы также можем сказать, что путь к основным проблемам метафизики есть «meditationes» о человеке как subiectum'e. Психология – это именование той метафизики, которая постигает человека, то есть человечество как таковое (а не только отдельное «я») как subiectum, полагает его как меру и средоточие, как основание и цель всего сущего. Поэтому когда нигилизм понимается как «психологическое состояние», это означает, что речь идет о положении человека в среде сущего в его целом, о том образе действий, с помощью которого человек полагает себя в отношении к сущему как таковому, а также формирует и утверждает эту связь и тем самым себя самого; это означает не что иное, как способ пребывания человека в истории, причем этот способ определяется из основной особенности сущего как воли к власти. Нигилизм, понятый как «психологическое состояние», означает нигилизм, понимаемый как форма воли к власти, как то событие, в котором человек историчен.
Коль скоро Ницше говорит о нигилизме как «психологическом состоянии», при разъяснении его сущности он будет двигаться в русле «психологического» и говорить языком «психологии». Это не случайно и потому не является каким-то внешним способом говорить о том, о чем хочешь сказать. Тем не менее в этом языке нам надо суметь расслышать нечто более существенное, потому что он имеет в виду «космос», сущее в целом.